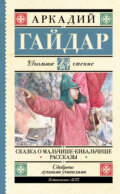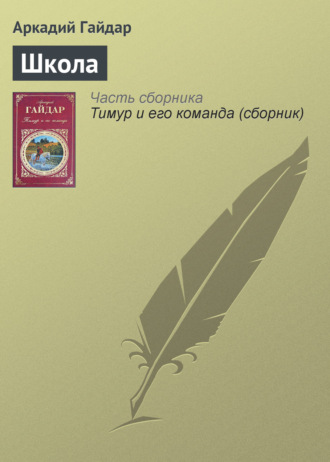
Аркадий Гайдар
Школа
Глава одиннадцатая
В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного привала я убежал.
Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников, глухие овраги, мостики – все то, что в другое время заставило бы меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние часы.
Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме одного только: скорей попасть к своим.
Следующий день, с полудня до глубоких сумерек, проспал я, как под хлороформом, в кустах запущенной лощины; ночью поднялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал приблизительно, где мне нужно искать своих. Они должны были быть уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, проселочными дорогами – никто не останавливал меня.
Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье комаров. В шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лесной осоки беспокойной совой кричала раззолоченная звездами душная ночь.
Отчаянье стало овладевать мной. Куда идти, где искать? Вышел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессиленный, лег на поляну душистого дикого клевера. Так лежал долго, и чем дольше думал, тем крепче черной пиявкой всасывалось сознание той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чубук, на меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего, он ведь не знал про документы кадета, я забыл ему сказать про них. Сначала Чубук думал, что я тоже в плену, но когда увидел меня сидящим на завалинке, а особенно потом уже, когда капитан дружески положил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я перешел на сторону белых, а может быть даже, что я нарочно оставил его в палатке. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе той заботливости и того внимания, которые были проявлены ко мне белым офицером. Его плевок, брошенный в последнюю минуту, жег меня, как серная кислота, вплеснутая в горло. И еще горше становилось от сознания, что поправить дело нельзя, объяснить и оправдаться не перед кем и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда…
Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шалаше туже и туже скручивала грудь. И никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить. Тишина. Только гам птиц да лягушиное кваканье.
К злобе на самого себя примешалась ненависть к проклятой, выматывающей душу тишине. Тогда, обозленный, раскаивающийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхватил из кармана бомбу, сдернул предохранитель и сильным взмахом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на росистые колокольчики.
Бомба разорвалась с тем грохотом, которого я хотел, и с теми далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами ошалелого эха.
Я упрямо зашагал вдоль опушки.
– Эй, кто там идет? – услышал я вскоре из-за кустов.
– Я иду, – ответил я, не останавливаясь.
– Что за я!.. Стрелять буду!
– Стреляй! – с непонятной вызывающей злобой выкрикнул я, вырывая маузер из-за пазухи.
– Стой, шальной! – раздался другой голос, показавшийся мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутнику. – Васька, стой же ты, черт! Да ведь это же, кажется, наш Бориска.
У меня хватило здравого смысла опомниться и не бабахнуть в бойца нашего отряда, шахтера Малыгина.
– Да откуда ты взялся? А мы тут недалече. Послали нас разузнать: бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли?
– Я.
– Чего это ты разошелся так? И бомбами швыряешься и на рожон прешь. Ты уж не пьяный ли?
Все рассказал я товарищам: как попал к белым, как был захвачен и погиб славный Чубук, только о последнем, плевке Чубука, не сказал я никому. И тогда же выложил заодно обо всем, что слышал в штабе о планах белых, о расположении, о том, что отряды Жихарева и Шварца постараются нагнать наших.
– Что же, – сказал Шебалов, опираясь на потемневший и поцарапанный в походах палаш, – слов нету, жалко Чубука. Был Чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и говорить… Большую оплошку сделал ты, парень… Да, большую. – Тут Шебалов вздохнул. – Ну, а как мертвого все равно не воротишь, нечего мне тебе говорить, да и ты сам не нарочно, а с кем беды не бывает.
– С кем беды не бывает, – подхватило несколько голосов.
– Ну, а вот за то, что узнал ты про Жихарева, про ихние планы, за то, что торопился ты сообщить об этом товарищам, – за это тебе вот моя рука и крепкое спасибо!
Круто завернув вправо, большими ночными переходами далеко ушли мы от ловушки, расставленной Жихаревым, и, минуя крупные села, сбивая на пути мелкие разъезды белых, соединившиеся отряды Шебалова и Бегичева вышли через неделю к своим регулярным частям, державшим завесу на участке станции Поворино.
В те же дни я стал кавалеристом. На стоянке подошел ко мне Федя Сырцов, хлопнул по плечу своей маленькой цепкой пятерней.
– Борис, – спросил он, – верхом ездил когда?
– Ездил, – ответил я, – в деревне только, у дядьки, да и то без седла. А что?
– Раз без седла ездил, в седле и подавно сумеешь. Хочешь ко мне в конную?
– Хочу, – ответил я и недоверчиво посмотрел на Федю.
– Ну, так заместо Бурдюкова будешь. Его коня возьмешь.
– А Гришка где?
– Шебалов выгнал, – и Федя выругался. – Вовсе из отряда выгнал. Гришка на обыске у попа надел на палец колечко да и позабыл снять. И колечко-то дрянь, ему в мирное время пятерка – красная цена. Так поди ж ты, поговори с Шебаловым! Выгнал, черт, попову сторону взял.
Я хотел было возразить Феде, что вряд ли Шебалов станет держать попову сторону и что, вероятно, Гришка Бурдюков не нечаянно позабыл снять кольцо. Но тут мне показалось, что Феде не понравится это разъяснение, он, чего доброго, раздумает брать меня в конную разведку, и я смолчал. А в конную давно уже мне хотелось.
Пошли к Шебалову.
Шебалов неохотно согласился отпустить меня из первой роты. Поддержал неожиданно хмурый Малыгин.
– Пусти его, – сказал он. – Парень молодой, проворный. Да и так он ходит все, без Чубука скучает. Они ведь, бывало, всегда на пару, а теперь не с кем ему!
Шебалов отпустил, но, исподлобья посмотрев на Федю, сказал ему не то шутя, не то серьезно:
– Ты, Федор, смотри… не спорть у меня парня! Ты не вихляй глазами-то, серьезно я тебе говорю!
Вместо ответа Федя задорно подмигнул мне: ладно, дескать, сами не маленькие.
Через месяц я уже как заправский кавалерист, подражая Феде, ходил, расставляя в стороны ноги, перестал путаться в шпорах и все свободное время проводил возле тощего пегого жеребца, который достался мне после Бурдюкова.
Я сдружился с Федей Сырцовым, хотя Федя и вовсе не был похож на расстрелянного Чубука. Если правду сказать, то с Федей я себя чувствовал даже свободнее, чем с Чубуком. Чубук был похож на отца, а не на товарища. Станет иногда выговаривать или стыдить, стоишь, злишься, а язык не поворачивается сказать ему что-нибудь резкое. С Федей же можно было и поругаться и помириться, с ним было весело даже в самые тяжелые минуты. Капризный только был Федя. Иной раз заладит свое, так ничем его не сшибешь.
Глава двенадцатая
Однажды Шебалов приказал Феде:
– Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Выселки. Второй полк по телефону разведать просил, нету ли там белых. У нас своего провода к ним не хватает, приходится разговаривать через Костырево, а они думают прямо через Выселки к нам связь протянуть.
Федя заартачился. Погода дождливая, скверная, а до Выселок надо было через болото верст восемь такой грязью переть, что раньше чем к ночи оттуда вернуться и думать было нечего.
– Кто на Выселках есть? – возмутился Федя. – Зачем там белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болота. Если белым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки…
– Тебя не спрашивают! Сказано тебе отправляться – и отправляйся, – оборвал его Шебалов.
– Мало ли что сказано! Ты, может, чертову бабушку разыскивать пошлешь меня! Так я и послушался! Нехай пехотинцы идут. Я лошадей хотел перековывать, а кроме того, табаку фельдшер два ведра напарил, от чесотки коням растирку сделать нужно, а ты… на Выселки!
– Федор, – устало сказал Шебалов, – ты мне хоть разбейся, а приказа своего я не отменю.
Шлепая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам, чтобы мы собирались.
Никому из нас не хотелось по дождю, по слякоти тащиться из-за каких-то телефонистов на Выселки. Ругали ребята Шебалова, обзывали телефонистов шкурами, пустозвонами, нехотя седлали мокрых лошадей и нехотя, без песен тронулись к окраине деревушки.
Вязкая, жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно было только шагом. Через час, когда мы были только еще на полдороге, хлынул ливень. Шинели разбухли, глаза туманились струйками воды, сбегавшими с шапок. Дорога раздваивалась. В полуверсте направо, на песчаной горке, стоял хутор в пять или шесть дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод.
– Отогреемся, тогда поедем дальше, – сказал он. – А то на дожде и закурить нельзя.
В большой просторной избе было тепло, чисто прибрано и пахло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свининой.
– Эге! – тихонько шепнул Федя, шмыгнув носом. – Хутор-то, я вижу, того, еще не объеденный.
Хозяин попался радушный. Мигнул здоровой девке, и та, задорно глянув на Федю, плюхнула на стол деревянные миски, высыпала ложки и, двинув табуретом, сказала, усмехаясь:
– Что ж стали-то? Садитесь.
– А что, хозяин, – спросил Федя, – далеко ли отсюда еще до Выселок?
– В лето, когда сухо, – ответил старик, – тогда мы прямой тропкой через болото ходим. Тут вовсе не далеко, полчаса ходьбы всего. Ну, а сейчас там не пройдешь, завязнуть недолго. А так по дороге, по которой вы ехали, часа два проедешь. Тоже скверная дорога, особенно у мостика через ключ. Верхами ничего, а с телегой плохо. Зять у меня нынче вернулся оттуда, так оглоблю сломал.
– Сегодня оттуда? – спросил Федя.
– Сегодня, с утра еще.
– Что там, не слыхать белых?
– Да нет, не слыхать пока.
– Пес его, Шебалова, задери. Говорил я ему, что нету. Раз с утра не было, значит, и сейчас нету. Весь день такой дождина, кого туда понесет? Давай раздевайся, ребята. Не за каким чертом лезть дальше. Только ноги коням вывертывать.
– Ладно ли, Федька, будет? – спросил я. – А что Шебалов скажет?
– Что Шебалов? – ответил Федя, решительно сбрасывая тяжелую, перепачканную глиной шинельку. – Скажем Шебалову, что были, мол, и никого нету!
За обедом на столе появилась бутылка самогонки. Федя разлил по чашкам, налил и мне.
– Пейте, – сказал он, чокаясь. – Выпьем за всемирный пролетариат и за революцию! Пошли, Господи, чтобы на наш век революции хватило и белые не переводились! Дай им доброго здоровья, хоть порубать есть кого, а то скучно было бы без них жить на свете. Ну, дергаем!
Заметив, что я не решаюсь поднять чашку, Федя присвистнул:
– Фью!.. Да ты что, Борис, али не пил еще никогда? Ты, я вижу, не кавалерист, а красная девушка.
– Как не пил! – горячо покраснев, соврал я и лихо опрокинул чашку в рот.
Пахучая едкая жидкость обволокла горло и ударила в нос. Я наклонил голову и ожесточенно впился губами в размяклый соленый огурец. Вскоре мне стало весело. Вытащил Федя из кожаного чехла свой баян и заиграл что-то такое, от чего сразу стало хорошо на душе. Потом пили еще, пили за здоровье красных бойцов, которые бьются с белыми, за наших товарищей коней, которые носят нас в смертный бой, за наши шашки, чтобы не тупились, не осекались и беспощадно белые головы рубили, и за многое другое еще в тот вечер пили.
Больше всех пил и меньше всех пьянел наш Федя. Черные пряди волос прилипли к его взмокшему лбу; он яростно растягивал мехи баяна и мягким задушевным тенором выводил:
Как за Доном за рекой красные гуляют…
А мы нестройно, но с воодушевлением подхватывали:
Э-эй… пей, гуляй, красные гуляют…
И опять Федя заливался, качал головой и жмурил влажные глаза:
Им товарищ – острый нож,
Шашка-лиходейка…
А мы с хвастливым, бесшабашным молодечеством вторили речитативом:
Шаш-шка-ли-хо-дей-ка…
И разом дружно:
И-эх! Пра-ап-падем мы ни за грош…
Жизнь наша ко-пей-ка-а-а-а-а!
Напоследок Федя взял такую высокую ноту, что перекрыл и наши голоса и свой баян, опустил голову, раздумывая над чем-то, потом тряхнул кудрями так яростно, точно его укусила в шею пчела, и, стукнув кулаком по столу, потянулся опять к чашке.
Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть ногой в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что сижу не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило. Накрапывал мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались, и задние наезжали на передних. Долго шатало меня по седлу, и наконец я приник к гриве коня, как неживой.
Утром болела голова. Вышел на двор. Было противно на самого себя за вчерашнее. В торбе у моего коня овса не было. Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяна в грязь. Зато у Федькиного жеребца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведерко и отсыпал немного своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков; оба злые, глаза мутные, посоловелые.
«Неужели же и у меня такое лицо?» – испугался я и пошел умываться. Мылся долго. Потом вышел на улицу. За ночь ударили заморозки, и на затвердевшую глину развороченной дороги западали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя Сырцов и заорал:
– Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу отсыпал? Я тебя за этакие дела по морде бить буду!
– Сдачи получишь, – огрызнулся я. – Что твоему коню – лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке забрал?
– Не твое дело, – брызгаясь слюной и ругаясь, подскочил ко мне Федя, размахивая плетью.
– Убери плеть, Федька! – взбеленившись, заорал я, зная его самодурские замашки. – Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебе плашмя клинком по башке заеду!
– А, ты вот как!
Тут Федька разъярился вконец, и уж не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы не появился из-за угла Шебалов.
Шебалова Федя не любил и побаивался, а потому со злостью жиганул плетью по спине вертевшуюся под ногами собачонку и, погрозив мне кулаком, ушел.
– Поди сюда, – сказал мне Шебалов.
Я подошел.
– Что вы с Федькой то в обнимку ходите, то собачитесь? Зайдем-ка ко мне в хату.
Притворив за собой дверь, Шебалов сел и спросил:
– На Выселках и ты с Федькой был?
– Был, – ответил я и смутился.
– Не ври! Никто из вас там не был. Где прошатались это время?
– На Выселках, – упрямо повторил я, не сознаваясь.
Хоть я и был зол на Федьку, но не хотел его подводить.
– Ну ладно, – после некоторого раздумья сказал Шебалов и вздохнул. – Это хорошо, что на Выселках, а я, знаешь, засомневался что-то, Федьку не стал и спрашивать: он соврет – недорого возьмет. Байбаки его тоже как на подбор – скаженные. Мне со второго полка звонили. Ругаются. «Мы, говорят, послали телефонистов в Выселки, поверили вам, а их оттуда как жахнули!» Я отвечаю им: «Значит, уже опосля белые пришли»; а сам думаю: «Пес этого Федьку знает, вернулся он что-то поздно, и вроде как водкой от него несет».
Тут Шебалов замолчал, подошел к окну, за которым белой россыпью отсеивался первый неустойчивый снежок, прислонился лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько минут.
– Беда мне прямо с этими разведчиками, – сказал он, оборачиваясь. – Слов нету, храбрые ребята, а непутевые! И Федька этот тоже – никакой в нем дисциплины. Выгнал бы – да заменить некем.
Шебалов посмотрел на меня дружелюбно; белесоватые насупившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная улыбка, и он сказал искренне:
– Знаешь, ведь беда как трудно отрядом командовать! Это не то что сапоги тачать. Сижу вот целыми ночами… к карте привыкаю. Иной раз в глазах зарябит даже. Образования нет ни простого, ни военного, а белые упорные! Хорошо ихним капитанам, когда они ученые и сроду на военном деле сидят, а я ведь приказ даже по складам читаю. А тут еще ребята у нас такие. У тех дисциплина. Сказано – сделано! А у нас не привыкли еще, за всем самому надо глядеть, все самому проверять. В других частях хоть комиссары есть, а я просил-просил – нету, отвечают: «Ты пока и так обойдешься, ты и сам коммунист». А какой же я коммунист?.. – Тут Шебалов запнулся. – То есть, конечно, коммунист, но ведь образования никакого.
В дверь ввалились грузный Сухарев и чех Галда.
– Я сольдат в расфетку даль, я сольдат… к пулеметшик даль… Я сольдат… на кухонь, а он нишего не даль, – возмущенно говорил крючконосый Галда, показывая пальцем на красного злого Сухарева.
– Он на кухню дал, – кричал Сухарев, – картошку чистить, а я ночную заставу только к полудню снял! Он к пулеметчикам дал, а у меня из второго взвода с утра ребята мост артиллеристам чинить помогали. Нет, как ты хочешь, Шебалов. Пусть он людей для связи дает, а я не дам!
Сжались белесоватые брови, сощурились дымчатые глаза, и не осталось и следа смущенной, добродушной улыбки на сером, обветренном лице Шебалова.
– Сухарев, – строго сказал он, опираясь на свой палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими шпорами, – ты не дури! У тебя одну ночь не поспали, ты и разохался. Ты ж знаешь, что я нарочно Галде передохнуть даю, что ему особая задача будет. Он ночью на Новоселово пойдет.
Тут Сухарев разразился тремя очередями бесприцельной брани; крючконосый Галда, путая русские слова с чешскими, замахал руками, а я вышел.
Мне было стыдно за то, что я соврал Шебалову. «Шебалов, – думал я, – командир. Он не спит ночами, ему трудно. А мы… мы вон как относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша разведка была в Выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще, что никого не убило. А ведь это уж нечестно, нечестно перед революцией и перед товарищами».
Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя – начальник и это он приказал переменить маршрут, но тотчас же поймал себя на этом и обозлился: «А водку пить тоже начальник приказал? А старшего командира обманывать тоже начальник заставил?» Из окна высунулась растрепанная Федина голова, и он крикнул негромко:
– Бориска!
Я сделал вид, что не слышал.
– Борька! – примирительно повторил Федя. – Брось кобениться. Иди оладьи есть. Иди… У меня до тебя дело… Жри! – как ни в чем не бывало сказал Федя, подвигая ко мне сковородку, и с беспокойством заглянул мне в лицо. – Тебя зачем Шебалов звал?
– Про Выселки спрашивал, – прямо отрезал я. – Не были вы, говорит, там вовсе!
– Ну, а ты?
Тут Федя заерзал так, точно его вместе с оладьями посадили на горячую сковороду.
– Что я? Надо было сознаться. Тебя только, дурака, пожалел.
– Но-но… ты не очень-то, – заносчиво завел было Федя, но, вспомнив, что он еще не все выпытал у меня, подвинулся и спросил с тревожным любопытством: – А еще что он говорил?
– Еще говорил, что трусы вы и шкурники, – нагло уставившись на Федю, соврал я. – «Побоялись, говорит, на Выселки сунуться да отсиделись где-то в логу. Я, говорит, давно замечаю, что у разведчиков слабить стало».
– Врешь! – разозлился Федя. – Он этого не говорил.
– Поди спроси, – злорадно продолжал я. – «Лучше, говорит, вперед пехоту на такие дела посылать, а то разведчики только и горазды, что погреба со сметаной разведывать».
– Вре-ешь! – совсем взбеленился Федя. – Он, должно быть, сказал: «Байбаки, от рук отбились, порядку ни черта не признают», а про то, что разведчикам слабо́ стало, он ничего не говорил.
– Ну и не говорил, – согласился я, довольный тем, что довел Федьку до бешенства. – Хоть и не говорил, а хорошо, что ли, на самом деле? Товарищи надеются на нас, а мы вон что. Соседний полк из-за тебя в обман ввели. Как на нас теперь другие смотреть будут? «Шкурники, скажут, и нет им никакой веры. Сообщили, что нет на Выселках белых, а телефонисты пошли провод разматывать – их оттуда и стеганули».
– Кто стеганул? – удивился Федя.
– Кто? Известно, белые.
Федя смутился. Он ничего еще не знал про телефонистов, попавших из-за него в беду, и, очевидно, это больно задело его. Он молча ушел в соседнюю комнату. И по тому, что Федя, сняв свой хриплый баян, заиграл печальный вальс «На сопках Маньчжурии», я понял, что у Феди дурное настроение.
Вскоре он резко оборвал игру и, нацепив свою обитую серебром кавказскую шашку, вышел из хаты.
Минут через пятнадцать он появился под окном.
– Вылетай к коню! – хмуро приказал он через стекло.
– Ты где был?
– У Шебалова. Вылетай живей!
Немного спустя наша разведка легкой рысцой протрусила мимо полевого караула по слегка подмерзшей, корявой дороге.