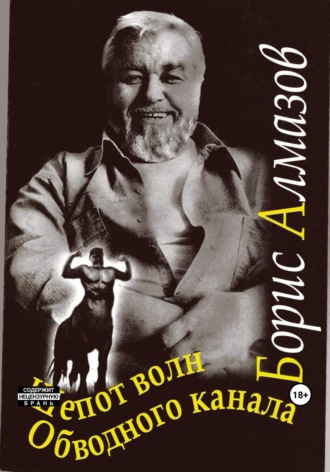
Борис Александрович Алмазов
Шепот волн Обводного канала
Царяааа храни!…
Я никогда не видел таких глаз у моей бабушки. Они наполнились слезами и сияли! Профессор встретился с ней взглядом и вдруг спросил, положив мне руку на голову:
– Ваш? Да… Октябренок? Прелестно… А ведь все было не так! Верно, я говорю?
– Да! – сказала бабушка, комкая в руках мой шарфик, – Да!
– То-то и оно… – сказал Профессор, и еще раз, погладив меня по налысо остриженной голове, пошел по коридору, заполняя его весь своей широкой фигурой.
Дома мы долго обсуждали с бабушкой этот удивительный случай! И бабушка все повторяла: «Как он не боится! Как он не боится».
Так вот, он сидел в аудитории, где я должен был демонстрировать свою профнепригодность.
Соломон выволок меня перед столом экзаменаторов и, дергая за плечо, стал перечислять мои грехи. Директор, сидевший на председательском месте, и какая-то тощая, в очках и кружевах мадам, и еще несколько педагогов сочувственно кивали:
– «Да, да, да… – мол, надо отчислять».
– Не трясите его! – сказал вдруг Профессор, – Ему больно.
– Да я, собственно… – Соломон отдернул руку от моего плеча, будто обжегся.
– Да что вы-то собственно?! – неожиданно грубо прервал его старик, – Что там у тебя? «Сурок»? Давай, валяй «Сурка»!
Я знал, что если за рояль сядет Соломон, то он обязательно собьет меня, но Профессор сел к инструменту сам! И я сыграл хорошо!
– Сфинкс! – как всегда сказал, словно плюнул в меня, Соломон.
– А вариации можешь? – спросил меня Профессор.
– К Бетховену? – ахнула мадам, – Оригинально.
– А как это? – спросил я.
– Ну, вот тебе мелодия, а ты ее вокруг, понимаешь, вокруг… Для красоты.
– На скрипке не могу.
– Ага! – азартно закричал старик, – Валяй голосом.
И схватил свою скрипку!
Музыка! Великая, прекрасная музыка снова возвращалась ко мне, и я запел, оплетая мелодию такими кружевами вариации, что казалось – сразу пою за нескольких человек…
– Вы че делаете?! – закричал Профессор, когда мы закончили, – Иди, иди к бабушке! Вы че делаете?! Вы че себе позволяете?!
Мне было слышно за дверью, как что-то сбивчиво бормотал Соломон, а Профессор орал:
– Если тыкать все время «свинья, свинья» не удивляйтесь, что услышите в ответ хрюканье! Не понятно? Могу изложить по-латыни!
Я стоял в коридоре и молился, чтобы меня не выгнали. Профессор выскочил и чуть не сбил меня дверью
– От, мать честная! Господи, Боже ты мой!
Он взял меня за руку и повел в свою аудиторию, где занимался с выпускниками. Там он посадил меня за стол, достал из сумки – чемодана термос (я увидел термос первый раз в жизни) и налил мне горячего чаю. Достал два бутерброда с колбасой и сам тоже стал пить со мною чай.
Красный от возмущения, он молчал и сердито сопел.
Когда я съел свой бутерброд, он поставил меня прямо против себя и, держа за плечи, спросил:
– Папы нет? Естественно. А мама? Медсестра. А дедушка?
– Какой? – спросил я, и меня жаром обдало, потому что мне категорически запрещалось говорить, кто были мои дедушки, – Дедушек тоже нет. Они умерли.
– Были кем?! – спросил Профессор, и я не смог соврать.
– Мамин – священник…. Папин – хорунжий! Но они… за нас…– я хотел сказать, что они не против Советской власти.
– Ах ты, Боже ты мой! – сказал Профессор. – Боже ты мой! Что творится!… Хорунжий! А ты-то, вершок с кепочкой, казак, что ли?
Я кивнул.
– А как положено казаку отвечать – знаешь?
– Казак станицы Добринской, Урюпинского юрта, Хоперского округа, Всевеликого войска Донского, – сказал я, первый раз в жизни, повторив вслух полный титул, который мне шепотом, под великим секретом, говорила бабушка, прибавляя: «Попомни. Попомни навсегда. Только никому не говори».
– Вот это да! – Профессор вытащил платок и долго сморкался.
Я подождал, пока он просморкается, и с надеждой спросил:
– Вы тоже?
– Что?
– Казак?
– Нет, – сказал старик совершенно серьезно, без тени улыбки. – Я чистокровный русский. Здесь, на Питерском камушке родился, здесь и в землю, Бог даст, пойду… А ты, казак, меня сильно обрадовал. Сильно.
Стоит ли говорить, что Профессор взял меня к себе. И я был единственный младшеклассник, из тех, кто обучался у этого великого музыканта и педагога. Он работал только с выпускниками…
Почти все наши занятия заканчивались чаепитием. Он так меня подкармливал…
Года через два я узнал, что он юнкером, (пошел в юнкера из консерватории, по призыву Временного правительства), в ту октябрьскую ночь находился в Зимнем…
Он рассказывал мне в подробностях, как все происходило на самом деле… Откуда и кто захватил дворец… Что никакого штурма, так картинно показанного в кино, не было вообще! Я думаю, что многого он не договаривал, щадя меня. О себе же скупо говорил, что вернувшись той ночью из Зимнего, выкинул шинель, всю амуницию и вернулся в консерваторию. И повторял, как Савва: «Скрипочка меня спасла».
За два года моего величайшего счастья мы прошли программу четырех лет обучения. И хотя у меня начисто отсутствовала общефортепианная подготовка, никто не смел даже подумать о том, чтобы меня отчислить. За мною нерушимой стеной стоял Профессор.
Кто знает, может быть, стал бы я профессиональным скрипачом, да вот только Профессор, в котором воплощалась моя тоска и по отцу, и по дедам, и для которого я, наверное, был желанным, но так и не родившимся внуком – умер.
После похорон на траурном концерте школьный симфонический оркестр играл реквием, и Соломон прочувственно вел первую скрипку. Он был похож на Паганини…
Я с горя заболел и музыкальную школу бросил.
3.
Я болел долго, месяца четыре. Врачи никак не могли определить, что со мною, а мне сделалось все равно, … Я совсем не хотел ходить в школу и вообще не хотел ничего делать… Меня таскали на бесчисленные анализы и осмотры. Потом придумали, что у меня воспаление почек. Хотя я совершенно уверен – не было никакого воспаления! Я болел от тоски! Я так горевал по скрипке и по Профессору, что даже плакать не мог.
Мама и бабушка правильно сделали, что не пустили меня на похороны, и я не видел Профессора мертвым. Поэтому он мне постоянно снился живым, и я разговаривал с ним почти каждую ночь. Хотя при жизни, обычно мы с ним мало разговаривали – только когда пили чай. А так все время: либо занимались, либо к нему шли ученики: как пригородные электрички – один за другим или как трамваи, что грохотали и завывали под окнами нашего дома. Я лежал с открытыми глазами и смотрел как вместе с грохотом, от которого дрожала посуда в шкафчике, а по потолку медленно проплывает блик света слева направо со Ржевки в город и справа налево из города на Ржевку…
Скрипка у меня была казенной, и ее пришлось сдать обратно в школу, но меня никто не исключал, я считался в академическом отпуске по – болезни. Хотя я – то знал, что назад в школу никогда не вернусь. Не мог я вернуться, потому что там меня ждал Соломон. Он, все-таки победил!
Провалявшись дома несколько месяцев, я вынужден был пойти в свою общеобразовательную школу, только потому, что мне грозила перспектива остаться на второй год, кое – как я вытянул на троечках, и был допущен к экзаменам. Тогда экзамены сдавались ежегодно, начиная с четвертого класса. Поскольку к экзаменам нужно было готовиться самостоятельно и не ходить, в ставшую мне чужой, школу, я приналег и сдал на одни пятерки.
– Сфинкс, Сфинкс! – будто слышал я за спиной голос Соломона.
У меня еще оставались обломки голоса, хотя уже начиналась мутация и я «давал петухов» во всех регистрах. Мама до войны мечтала быть певицей и позволяла себе единственное удовольствие – петь в хоре, который существовал в соседней воинской части. Я не любил ни этот хор, ни жен офицеров, его составлявших, но мама, время от времени, заставляла и меня выступать, то со скрипкой, то с пением… Это – невыносимые муки и унижение! Но кто знает, может быть, тогдашние мои страдания помогли мне потом и в педагогической карьере, и во многом другом, например, не бояться аудитории, телекамеры и пр…
И вот однажды, я притащился на репетицию хора и увидел там нового хормейстера. Неожиданно он взял, лежащую на рояле, скрипку и стал подыгрывать поющим. Когда он ушел покурить, я, не помня себя, взял скрипку и смычок.... Я не стал играть, просто стоял так, вдыхая запах канифоли и еще, еле уловимый, как музыка, тот особенный запах, который есть у каждой скрипки, и у каждой свой…
– Хочешь учиться играть на скрипке?– услышал я за спиной.
– Я учился…– проскрипел я, теперь совершенно чудовищным, подростковым голосом.
– Пять классов?– Это прилично, весьма прилично… Надо продолжать. Ни в коем случае не надо бросать!
Господь послал мне еще одного прекрасного человека! Звали его Владимир Иванович Варфоломеев. Он был инженером на Охтинском химическом комбинате, там же работала его жена, по-моему, химиком-технологом, но оба – прекрасные музыканты. Владимир Иванович музыку любил фанатично. Занятый, как говориться, «по самое никуда» на работе, он еще руководил самодеятельным хором, и сам учился в музыкальном училище.
Говорили, что инженер он, что называется, от Бога! Целая стопка почетных грамот лежала у него на краю старенького пианино втиснутого в их комнатушку, величиною с посылочный ящик. У него были золотые руки и он постоянно что-то мастерил: то какую то радиолу, то телевизор, то купил страшную по тем временам редкость – машину и все лето валялся под ней, нисколько не щадя своих рук скрипача.
Я уж не говорю, что кроме большого гаража он постоянно что- то строил: какие-то теплицы, какие-то необыкновенные парники на огороде. Все это, конечно, ломалось и разворовывалось окрестным пролетариатом, свезенным на Ржевку, по вербовке, со всех деревень Псковской и Новгородской областей, который совершенно здесь спивался. Владимир Иванович и сам, время от времени, бывал пьян, иногда сильно. Правда, я никогда его таким не видел, но водочная страсть делала его своим для сотен собратьев по труду. Иначе он бы не был ими понят и принят. Совсем бы уж оставался белой вороной со своим авто и скрипкой!
Летом приехала из города, с ласковым названием Серпухов, его матушка, нянчить внучку, тут я узнал, что Владимир Иванович в сорок первом году из девятого класса ушел добровольно на фронт и воевал до Победы. Что у него два ордена и четыре медали.
О его военной биографии, плача, рассказывала его мать: «Был вот, командиром отделения. Говорят, надо связь установить с тем берегом. Володюшка спрашивает: – Ребята, кто пойдет? Те – мнутся. А которые и плавать не умеют. Ну, он тогда катушку на спину и сам поплыл, да выплыл то, спервоначалу, к немцам, скорее, назад, в воду, а уж потом к своим. Думал: Героя дадут, потому обещали: кто первый на берег энтот Днепровский ступит – тому Героя. Он среди связистов выходил – первый! Но, вот не дали. Только Красную звезду».
Сам Владимир Иванович никогда о войне не говорил и в разговорах о войне не участвовал.
Постепенно, я отходил от своего горя. Музыка снова возвращалась. Но у меня не было скрипки! Мы искали ее с Владимиром Ивановичем по комиссионным магазинам, по музыкальным, пытались купить с рук по объявлению, но скрипка – редкость. Скрипок не было! Владимир Иванович брал для меня скрипку на прокат в училище, но и там скрипок не хватало, и ему каждый месяц все труднее и труднее было продлевать «прокат инструмента» И вот в один вечер, он приехал к нам совсем огорченный и без скрипки. Скрипку отобрали. Я остался без инструмента.
Все занятия теряли смысл. Опять чудился мне злорадный смешок Соломона, потому что скрипка не для меня! С калашным рылом, в суконный ряд....
И опять произошло чудо. Однажды вечером, когда мне совершенно нечем стало себя занять, в нашей комнате возник старичок, похожий на Чарли Чаплина: с такими же усиками, в круглой черной шляпке, и принес скрипку.
Это был фельдшер скорой помощи. Он работал вместе с мамой. Его все знали только по фамилии – Казачков. Я думаю, его до сих пор помнит благодарная Ржевка, если она, вообще, не утратила способности что-нибудь помнить! Он был настоящий фельдшер с окраины. Я видел, однажды, случайно, его в работе, когда он оказывал помощь, попавшему под трамвай! Маленький, зоркоглазый, сосредоточенно интеллигентный, он мгновенно разглядел все ушибы, все травмы и переломы, наложил жгуты и по всем правилам, отправил пострадавшего в ближайшую больницу. Кажется, это было воскресенье, и Казачков был выходной. Просто проходил мимо…
В тот вечер он долго пил чай, и рассказывал про свое трудное детство и про свою мечту научиться играть на скрипке. Мечта не сбылась, он не научился. Но скрипку привез с войны, подобрав ее, где-то, на обочине фронтовой дороги. Скрипку он отремонтировал и долго берег, пока инструмент не пригодился мне.
Когда мама робко сказала что-то об оплате за прокат инструмента, он и слушать ничего не стал! Уходя, уже в дверях, прижимая шляпку к груди и помаргивая повлажневшими, прекрасными добрыми глазами он сказал:
– Когда я умру, я хотел бы, чтобы мальчик однажды пришел и сыграл что-нибудь на моей могиле… Мне будет приятно, что он выучился, и скрипка принесла пользу. Пусть не я, так другой, но все же станет скрипачом!
О, святое, сентиментальное время! О, светлая память фронтовиков, не ожесточившихся во зле войны! О, прекрасная моя Родина, может быть единственное место на планете, где прозябая в кошмаре продымленной химией окраины, униженные уже самим существованием здесь, постоянно оскорбляемые, в страхе бессмысленных и беспощадных репрессий, люди не оскотинели, не утратили мягкости сердец. Удивительно, но мне кажется, что в то страшное, злое время люди, в большинстве своем, были добрее, чем нынче.
К сожалению, я не смог выполнить трогательной просьбы фельдшера Казачкова и причин тому несколько. Я уехал со Ржевки. Закончив программу музыкальной школы семилетки с помощью Владимира Ивановича, я сдал экзамен по специальности экстерном, но после этого забросил скрипку. И в переносном, и в прямом смысле. Это была уже моя скрипка. Мы купили ее. И концерт Мендельсона на выпускном экзамене я играл уже на своем инструменте. Но странное дело, вместе с появлением этой очень хорошей чешской импортной скрипки в нашей комнатушке, мне вдруг так стало ясно, что скрипачом я не стану. Время упущено. Да и кроме специальности нужно сдавать много чего еще… Например, общефортепьянную подготовку. А я так и не научился играть на рояле… Важно другое – я сумел закончить семилетку. Все-таки сумел! А дальше видно Бог не судил. Я еще поигрывал, и даже ходил в какой-то маленький оркестр, но все реже и реже. А в музыке, как и в любом искусстве не идти вперед – значит идти назад… Наконец, я убрал футляр со скрипкой на шкаф и не доставал его два десятка лет.
Не так давно, когда моя дочечка, «обалдевая музграмотой», никак не могла понять счета в менуэте Баха. Я достал скрипку, и ахнул: смычок облысел! Из него вылез волос. Хорошо, что когда – то Владимир Иванович купил мне запасной. К удивлению, дочери я заиграл!
Конечно, это можно назвать игрой с большой натяжкой....
Но если когда-нибудь на кладбище с эмалевой фотографии на меня глянут незабываемые, добрые глаза фельдшера Казачкова, я увижу его аккуратный косой пробор на тщательно причесанной голове, чаплинские усики и медаль «За оборону Ленинграда» на лацкане габардинового пиджака, я сыграю… Обязательно сыграю на скрипке! Все равно будет ли это зима и сугробы или осенний дождь, будут ли вокруг люди или одни кресты и монументы. Я сыграю! Обязательно. И мне совершенно наплевать, как к этому отнесутся слушатели, если вдруг случатся рядом.
Вечерний звон
Самые счастливые годы моей студенческой жизни были связаны с квартирой в доме № 34 по Гагаринской улице, тогда улице Фурманова. Здесь над аркой ворот была большая комната, в которой жили два брата – студента Мишка и Витька. Комната в коммуналке была совершенно ледяной даже летом. Спасала печка, которую топили всем, что могли притащить с многочисленных капитальных ремонтов соседних домов. Вероятно, от разницы температур между остальным, прилично отапливаемым, домом и этой комнатой, которая были либо ледяной, либо раскаленной, стена дала трещину. Деньги, присланные родителями, братья прогуляли, а на оставшиеся копейки купили громадную карту Советского Союза и стену заклеили. Комната досталась им в наследство от бабушки. Любопытно, что на дежурный вопрос «как они уморили бабушку», начинали возмущаться и доказывать, что сделать этого никак не могли, потому жили с родителями в Каунасе, где отец был командиром батальона спецназа, мать – врачом в госпитале, а младшая сестра училась в школе, и что бабушку они вообще видели раза три в жизни.
– И н-н-никого –ф-ф-физически угрробить не могли.
– Вы ее морально угробили!
В этой способности братьев никто не сомневался – характеры у них были «нордические, стойкие». Оба учились и работали. Старший Мишка на дневном в Политехе и работал по вечерам, Витька учился там же, но на вечернем, и потому работал с утра.
И вот однажды, возвращаясь из своей кочегарки, Витька увидел, как в его парадной мальчишки кидают в стенку прабабушку всемирно известного нынче «дарца» – самодельную стрелу с иглой и бумажным стабилизатором. Совершенно справедливо усмотрев в этой игре угрозу детскому здоровью, со словами: « Вы что, дебилы, глаза выколоть друг другу хотите?», Витька стрелу у них отобрал и дома, просто так, метнул ее в карту, норовя попасть в родной город Каунас. И не попал. Он метнул снаряд еще раз и опять промахнулся.
Когда с вечерней смены вернулся Мишка, то застал брата метавшего стрелу в полном исступлении. Витька был злой, в поту, раздетый до трусов, а вся карта в мелких дырках от промахов.
Со словами: « Смотри, сопля, как это делается!» Мишка отобрал стрелу у младшего брата, метнул его в карту и тоже промазал.
– Ах ты, зараза! – сказал он, снимая пиджак и галстук, – Ну-ка, ну-ка …
…В два часа ночи они решили не ложиться спать пока не добьются победы…
…В семь утра решили не идти ни в институт, ни на работу…
…В десять почти одновременно оба попали. Наконец.
Молча проглотили вчерашние холодные макароны и рухнули на постели в полном изнеможении, но с достоинством победителей. И это были еще цветочки! Они еще и не такое могли!
Любая идея мгновенно подхватывалась и воплощалась. Жарким июнем, в разгар белых ночей явилось мечтание искупаться. Тут же все, как обычно засидевшиеся гости и гостьи отправились к Петропавловке, мимо Летнего сада и Марсова поля. Несмотря на ночное время было светло, как бывает в эту пору. В голубом, свежеполитом асфальте отражался золоченый шпиль Михайловского замка. Над Лебежьей канавкой, за которой в Летнем саду надрывался соловей, в непривычной тишине гремевший трелями, слышными по всем набережным: Фонтанки, Екатерининского канала и Лебяжьей канавки… С Марсова поля в облаках аромата сирени, так же раскатисто и звонко отвечал ему соперник.
– Умереть, не не не встать, – сказал Витька, – Откуда они, сволочи, в центре? Тут же днем не продохнуть от гари… Просто лечь и тихо умереть!…
– Мальчики, – сказала какая-то разумная барышня. – Чего вы на Неву-то претесь? Купайтесь в Фонтанке, или вон в Лебяжьей канавке.
– В Лебяжке мелко, а по Фонтанке дерьмо плывет.
– Как будто Фонтанка в Неву не впадает!
– Т-т-там к-к-к-консистенция другая!
Возбужденные соловьиными трелями и присутствием хорошеньких девушек, мы решили переплыть Неву! Разделись в стеклянном тамбуре Дома ученых архитектора Резанова, который тогда не запирался на ночь. Выбросили девчонкам одежду, поскольку сменных трусов не имели, наказали им идти на Петропавловку, через Троицкий мост, а сами бодро и дружно метнулись в хладные волны.
Желание купаться прошло мгновенно. Стремительное течение упруго поволокло нас на стрелку Васильевского острова и противостоять ему было невозможно. Пловцы мы все пятеро были хорошие. Я тогда плавал в команде аквалангистов и за тренировку «наматывал» в бассейне километров пять, но то в бассейне…С ужасом, я подумал, что частенько встречал в литературе характеристику пловца, (скажем, Рахметова в «Что делать») – «он Волгу переплывал…», но никогда, нигде не читал и не слышал, что кто-то переплывал Неву, да еще в самом широком месте… Обменявшись, по этому поводу соображениями, мы решили повернуть обратно, но не тут то было…Течение волокло нас уже в районе Зимнего дворца и тащило на самую стремнину…
– Н-Н-Н адо за быки под Д-Д-Д Дворцовым мостом цепляться…– присоветовал заводила Витька. Но при одном воспоминании, как летит мимо этих быков вода, возникало сильное сомнение в удаче.
– Похоже – тонем. – сказал самый спокойный среди нас – Судак.
– Надо по течению сплавляться, – предложил Мишка. – Куда – нибудь да вынесет.
– К…к… к.. Петергофу… – мрачно пошутил Витька, – л л ледышки…З-з-замерзаем же…. Сейчас с-с-судорги начнуться.. Ребя, у кого иголка есть? Надо было иголку взять.
– Надо было тебе иголку в язык, когда ты всех подначил, – сказал Мишка
– Хоть в жопу! – сказал Судак, – Теперь без разницы.
Меня разобрал дикий смех. Это было нервное. Поскольку я отчетливо понимал – куда мы влетели. Но вероятно, молодость, литые мышцы и рефлекторная уверенность, что жить еще предстоит вечно, да еще, что нас тут пятеро, как – нибудь выкарабкаемся, помогали держаться. Все было как-то не натурально. Как-то не про нас…
Но как же мы обрадовались трелям милицейского свистка! Какие там соловьи могли пойти в сравнение с его разливами и красотами русской словесности, с которыми два сержанта вытягивали нас на борт катера речной милиции, вылетевшего к нам из под крутого мостика над Зимней канавкой.
– И главное – тверезые! Придурки! – мотал головой сержант, когда набитый нашими голыми телами, катер гнал к Троицкому мосту. – Главное, в чем мать родила. За что багром-то хватать?
Даже находчивый Витька не решился ничего посоветовать нашему спасителю.
А над русалками перил Троицкого моста, плыли, модные тогда, бутоны причесок наших девиц. Они шли совершенно позабыв, о том что только ради их благосклонного внимания, (что и составляет, по мнению Пушкина, «единственную цель наших усилий» ) мы чуть не отправились на тот свет. Они о чем-то увлеченно переговаривались, а одно из них, чуть приотстав, задумчиво вертела над головой, нацепив на палец, чьи-то плавки.
– С-С-С сволочи! – стуча зубами сказал Витька, – хоть бы на нас посмотрели…
– Мы не костюмах, – философски заметил Витя Богуславкий.
– А во сколько бани открываются? – полюбопытствовал у сержанта Судак, поскольку мы были в мазуте…
– А вот как из КПЗ вас выпустят, – сказал сержант, – Так, аккурат, в баню и пойдете. Ежели, конечно, ваши девицы трусы вам возвернут.
Перечень подобных историй можно продолжать бесконечно, но книга о песнях и квартира на Фурманова имела к ним самое прямое отношение. Нас всех объединяла пламенная любовь к пению, и нигде, и никогда я не пел столько, сколько в квартире на Фурманова. Песня объединяла и поющих, и слушающих. Не пели двое: Витька (но зато он был маг и волшебник магнитофона. Однажды, работая ночь на хрипатой Яузе и Астре, мы записали целый хорал, который спели вдвоем с его старшим братом Мишкой. Мишка держал низы, а я все остальное, а потом множили, множили и множили, подпевая голосам на магнитофоне. Получилось сносно. А ведь это было тридцать лет назад…) и Витя Богуславский, который утверждал, что у него нет слуха. Он только молчал и глядел исподлобья, сквозь тяжелые роговые очки и слушал. А пели мы самозабвенно. Часами.
Молва о наших спевках широко распространился в городе, и к нам приходили всякие молодые ребята – студенты – попеть. Некоторые, побывав единожды, больше и не появлялись, а другие приживались. Так появился, проходивший практику в журнале «Звезда» филолог Гришка. Обладателя похожего на плуг горба и хрустального тенора Гришку полюбили, что выражалось в полном пренебрежении к его физическому недостатку и отсутствия, в связи с этим, любых снисхождений. Пришел громадный толстый Игнатов, обладатель бархатного баса, который пел с нами пел, да и ушел в профессиональные певчие в Преображенский собор, что было весьма чревато в обществе строителей коммунизма. Говорят, комсомольские власти взялись его «охмурять и перевоспитывать», кончилось это тем, что Игнатов ушел в монастырь иноком, наверное, по-русской своей душе, делал он все в своей жизни обратно требованиям власть придержащих.
Спевки происходили стихийно. Как правило, они начинались с того, что обнаруживался рубль. На пятьдесят шесть копеек покупалась бутылка вина Айрум или Раздан, но уже за семьдесят две. (Год назад увидел это вино в магазине, кинулся как к глотку юности, отхлебнул – глаза из орбит – такой уксус – совершенно пить нельзя), за шестнадцать копеек – буханка хлеба и на оставшиеся – зельц – «холодец с ноготком» или « стюдень небритый» – в нем попадались клоки шерсти. Угощение было готово. Можно было ждать гостей. Приходили девчонки, приносили целомудренный лимонад. Изготавливался напиток «дуяк» (один к двум), который освежал, не был кислым и пьянил, поскольку алкоголь усваивался вместе с газом.
Или, например, сосед Геннадий по прозвищу «Пизя», (очень был озабочен сохранением Пизанской падающей башни. Дни и ночи о спасении думал – чертежи рисовал), нёс, например, Пизя кусок позеленелого сыра – выбрасывать, в связи с полной пищевой непригодностью, и был перехвачен у самого помойного ведра, Мишкой, который укорил его истреблением продуктов. Пристыженный, он кусок сыра отдал. Поэтому вместо студня и вина были куплены макароны, сварены, посыпаны тертым сыром, политы томатной пастой, посыпаны перцем, поданы под зеленью в тазике на общий стол. На спегетти гости налетели, как мухи, в том числе и Пизя с двумя дочками и трех и семи лет. Естественно, под такую «закусь» было выпито ведра два неизвестно откуда добытого бочкового пива, а уж пето – до утра.
Когда под утро все, кто жил далеко, улеглись, вповалку, спать на полу и тут же засвистели во все дырочки, дверь тихонько отворилась и в светлицу вошел не царь, а мишкин и витькин папаша – командир батальона спецназа, приехавший навестить сыновей. В комнате ступить некуда – спят как беженцы на вокзале.
– Э…– говорит, кто –то папаше, – На окне в тазике макароны. Чай в чайнике. Рубай и ложись к печке, нам часа через два на работу…
В семь утра дикий звон будильника, для громкости поставленный в оцинкованное ведро, и брательники кидаются в объятья, лежащего на полу, на шинели майора.
– Батя приехал!
А вечером майор десантник, сидя на подоконнике, глядел увлажненным глазами на сыновей и хрипловато тянул « бооом…», « бооом…», в коронной нашей распевке «Вечернего звона».
К исполнению Вечернего звона допускались все, но вот приживались – немногие. Он был точным тестом на чистоту души и на созвучие нашей компании. При кажущийся простоте мелодии, он требует не только умения подстраиваться к поющим, но полного слияния в духовной близости, в любви друг к другу, которую словами не высказать.
«Лампопо»
В Ленинград приехал казачий ансамбль песни и пляски. Естественно, как только мы услышали об этом по радио, бабушка извлекла из комода заветный потертый кожаный кошелек, куда ухитрялась откладывать какие-то крохи от своей пенсии, и долго считала, тихо шевеля губами, сколько мы можем истратить на театральные билеты.
Клуб, где должны выступать казаки, находился недалеко от моей музыкальной школы, поэтому мы пошли туда сразу после занятий. До концерта еще оставалось много времени, и бабушка повела меня в буфет. Там она купила два стакана чая и достала бутерброды, завернутые в газету, что привезла из дома. Под брезгливым взглядом буфетчицы, я стеснялся, их есть.
Бабушка строго посмотрела на меня, и я начал обжигаться чаем и давиться булкой с маслом. Бабушка тоже взяла один, как она говорила «для прилику», и перекрестилась, как она всегда делала перед едой и после того, как поела.
Народу в буфете много. К нам подошли два чубатых парня с подносом, и один спросил:
–
Мамочка, можно к вам притулиться?
– Конечно, конечно… – сказала бабушка.
Парни, широкоплечие и белозубые, начали весело уплетать макароны по-флотски. И я сразу понял, что больше всего на свете я люблю такие макароны. Я старался отвести глаза от этой вкусной дымящийся еды и увидел, что за одним из столиков сидят люди в гимнастерках без ремней и синих шароварах с лампасами. Они громко разговаривали и смеялись. Перед ними на тарелке лежали куски тонко нарезанного сала, они клали его на черных хлеб и ели, вероятно, перед этим выпив водки.
– Смотри, смотри, баба – зашептал я, – Смотри!
– Да, вижу, вижу…– сказала бабушка, – Ешь молча. Не кроши.
Парни тоже глянули на тех, что за столиком и переглянулись между собой, как-то странно усмехнулись. А я уже был готов забыть про еду.
– Баба! Ну, посмотри! Это же казаки! Это же наши – донские!
Но бабушка усмехнулась, точно так же странно, как эти парни за нашим столом.
– Нет, – сказала она. – Это не казаки!
– Как же не казаки! Они же в лампасах!
–Вот я сажей вымажусь, разве стану негритянкой?
Парни за столом дружно прыснули.
– Но они же в лампасах!
– Да генералы тоже в лампасах… – сказал один из парней.
– А у этих еще на пятках клетки от лаптей не отошли! – сказал второй.
Бабушка рассмеялась.
–Мама, – сказал парень,– а вы, какой станицы?
Мне странно было слышать, что он мою бабушку называл «мама».
– Преображенской, – сказала бабушка, ласково глядя на ребят.
– Вот мы и глядим, что именно вот внучок у вас беленький. А он – Верхоплавка!
– А вы с Низу?
– Были Кумшацкие. А что – видать?
– Что чубы, что усы… – засмеялась бабушка.– "Цыганы!"
– Во… и прозвищу знаете! «Чуб завил – все девки наши», – засмеялись парни.
– Ну, почему ты думаешь, что это не казаки? – не унимался я.
– Вижу, – сказала бабушка. – Не казаки.
– А кто ж?
–Артисты, – сказал парень. – Артисты, жаль, ты моя, болючая! Так ведь у вас, мама, на Верху гутарят?
– У нас гуторят, – сказала бабушка: – Гутарить начинают от Вешек на Низы.
– Ай-е…– удивился парень, – а я – й не знал.
–Шолохов тоже не знал, а ничего.… Живеть, – сказала бабушка.
Парни переглянулись.
– А как вы здесь?
– Да вот принесло под самую блокаду. А вы, не то учитесь где?
– Студенты.
– И на кого ж?
– Врачи.
– Ну, дай вам, Господь… Прямо вот я на вас порадовалась, как дома побыла.
–А чего ж домой-то не возвернетесь?
– Куда-й то? На кирпичи битые слезы ронить? Ай, да не на что там красоваться, нонь.
–Вот же и то ж…– вздохнули парни: – И наши хутора под водой. Цимлянское водохранилище… Такие виноградники затопили! Лоза в руку толщиной!… А земля какая была – хоть на хлеб мажь…
Ничего я не понимал в их разговоре, кроме того, что говорят они об одном и том же. И удивительно мне было, что говорили они понятные мне слова, а вот о чем, не понять. Но мне хотелось быть с ними вместе, с этими крепкими смугловатыми и чубатыми парнями с темными полосками молодых усов на верхней губе. Хотелось участвовать в этом странном разговоре, потому с ребячьей настырностью, я заладил:







