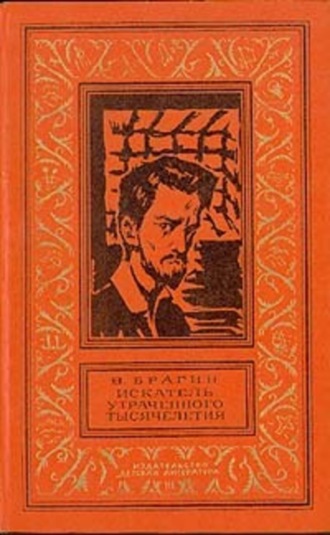
Владимир Григорьевич Брагин
Искатель утраченного тысячелетия
ДО КРУТОГО ПОВОРОТА – ОДИН ЧАС
Что было дальше? Как будто бы ничего особенного. Дождались поезда, сделали пересадку в Меншуткине, поехали на Зеленцово. О чем-то говорили… О чем? Не помню. Знаю одно: вишни были сочные, спелые и очень душистые. А мой спутник ел их медленно-медленно. Казалось, что каждая вишня приносит ему какую-то свою радость.
Вот и Зеленцово. Приехали! На платформе мы на минуту остановились.
Окольничий спрятал в сетку с продуктами свой кулек, в котором еще оставались вишни, и тут же бережно, подальше от кулька переложил томик академика Вернадского. А я свой пустой кулек смял и бросил в мусорную урну на платформе.
Обо всем этом в таких подробностях я не зря теперь вспоминаю.
Шли молча.
– О чем вы думаете, Сергей Васильевич? – спросил я своего спутника.
– Не могу примириться: две нечеткие буквы на перронном указателе нас запутали, и мы весь день проплутали невесть где.
– И эта случайность может погубить ваше будущее: – не утерпел я.
Мой спутник сделал вид, что не слышит, и продолжал:
– Я с мучением вглядывался в мусорную урну.
– Какую?
– Там, на платформе, вы еще бросили в нее свой пустой кулек. Какая она аляповатая, несуразная, да еще листья аканта отштампованы на ней. А сколько чугуна ушло на это милое создание! В Ленинграде… его безупречная стройная архитектура, серьезная и холодная Нева, настойчивый сумрак белых ночей – там все обязывает к строгости и к себе, и к делам.
– Конечно, на московском небе над нами просто луна, а на ленинградском небе Селена.
– Я думал о вас лучше… – с грустью сказал Окольничий.
– Простите, Сергей Васильевич, – примирительно сказал я, – ведь я просто развлекаюсь, играю словами, а думаю совсем о другом.
– О чем?
– О зайчике. О солнечном зайчике. В моей пустой квартире он по мне скучал, скучал и растаял.
– Опять развлекаетесь словами?
– На этот раз нет, – ответил я. – Мы пришли. Здесь, в этом домике, летом я снимаю комнату. А вот мое окошко.
– Прощайте! – улыбнулся напоследок Окольничий.
– Уверен, что Дмитрий Дмитриевич сразу же почувствует замысел вашей симфонии и поддержит вас, – сказал я, пожимая руку Сергею Васильевичу.
Глаза Окольничего чуть потеплели.
– Спасибо! Большое спасибо! Прощайте.
– Прощайте.
Я вошел в свою комнату. Распахнул окно. Рама задела ствол сосны. Теплый летний сумрак уже обволакивал его.
Выглянув из окна, я увидел, как медленно и задумчиво шел по просеке мой недавний спутник, а его две авоськи с продуктами, книгами и нотами качались и мотались в такт его шагам…
«Так, наверно, он и сам будет мотаться в жизни… А интересный человек, – подумал я. – И, наверно, я его больше не увижу. Жаль. Впрочем, – загадал я, – если он обернется, значит, мы еще увидимся».
Окольничий вдруг остановился. Он, видно, что-то вспомнил, задумался. Но не обернулся. Скрылся.
«Значит, не увидимся! Чепуха! Дачная чепуха. Пора спать!»
НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Поздняя ночь. Спокойно лежат на полу светотени. Снова луна поднимается над соснами.
Но мне не спится. Бессонница.
От бревенчатых стен шел смолистый запах.
Сосны даже срубленные живут, раздумывал я. Как странно! Люди срубили сосну… много сосен… Сделали дом. А они, сосны, и срубленные живут, веселя душу своим запахом. И еще какой-то другой запах – сухой и резкий – примешивается к запаху бревен. Мох! Ведь мхом проконопачены пазы меж всех этих бревен.
Луна уже стояла высоко в небе.
Я стал было дремать. Но вот сквозь приближающийся сон мне послышался голос: «Люби, – говорю своей дочери, – агронома, а она хочет за студента-художника. Погибать, значит, саду-то моему вишневому?» Откуда это? Ах да, так говорила женщина, торговавшая вишнями, а голос… Вишневый сад… Вишневый сад… А вот уж другой голос: «Торги… Аукцион на двадцать второе августа…» Сразу узнаю: это Лопахин, он будет рубить вишневый сад. Пьеса Чехова во МХАТе. Умолк Лопахин. Растаял.
Я стал засыпать… Все тихо. Остался только стук топора. Стучит в театре топор – рубят вишневый сад. Стук… Стук…
Проснулся. Стук повторился, но уже наяву – ясно, часто, дробно.
Стучал кто-то в мое окошко:
– Проснитесь!
Я вскочил. У открытого окна стоял при луне тот самый Окольничий, с которым мы плутали сегодня по разным станциям.
– Простите меня – разбудил! Но случилось нечто невероятное…
Я включил свет.
– Ничего не понимаю. Не стойте под окном, как в любовном романсе. Зайдите в дом.
И вот Окольничий сидит у стола. Вид у него встревоженный до крайности.
– Что случилось? Почему молчите?
– Бежал к вам… – Он умолк, уставился неподвижным взглядом на лампочку.
– Так что же случилось?
– Скажите, ведь вы знаете о том, что Кибальчич и на суде и перед казнью думал не о смерти, а о том…
– …чтоб до людей дошло его открытие. И просил суд сохранить его записи, – нетерпеливо подсказал я. – Но к чему это?
– Вы помните там, на станции, урну… ну, мусорную урну?
– Мусорную урну? Не понимаю. О чем вы, Сергей Васильевич!
– Наверное, в том кульке, который вы бросили в мусорную урну на платформе, скрыта разгадка тайны. Впрочем, читайте! Читайте скорее. Еще раз простите, что я помешал вам спать.
Он протянул мне большие смятые листы желтоватой твердой бумаги, измазанные вишневым соком.
– Что это за грязные бумаги?
– Мой кулек из-под вишен.
– Чего вы от меня хотите?
– Читайте!
Нехотя взял я листы и поднес поближе к лампочке.
НЕСКОНЧАЕМАЯ ЖИЗНЬ, ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ
Листы были исписаны четким, но мелким почерком.
Окольничий выдернул из моих рук нижний лист и положил его сверху:
– Для начала возьмите вот это.
Мне бросилось в глаза, что в правом верхнем углу листа очень ясным писарским почерком с лихими завитушками было старательно выведено: «27 августа 1858 года», а в левом – «К протоколу следствия, лист 117-й».
– Это что еще?
– Судебное дело. Чрезвычайной важности. Сто лет назад. Начала нет, но это неважно. Читайте, прошу вас.
Я нехотя принялся за чтение.
«…Экспертное заключение врача-психиатра Н. Е. Озерова.
В оном заключении врач-эксперт указывает на то, что обвиняемый страдает душевной болезнью в форме мономании, возникшей на почве контузии, полученной во время Севастопольской кампании и сопровождавшейся потерся памяти.
Посему все деяния обвиняемого, произведенные им по получении контузии, то есть начиная с 15 июля 1855 года, должно понимать как проявления помраченного сознания и состояния невменяемости; самого же обвиняемого рассматривать как человека душевнобольного…»
Я остановился в недоумении.
– Читайте же! – нетерпеливо настаивал Окольничий.
Я подчинился.
«…после оглашения экспертного заключения врачапсихиатра Н. Е. Озерова обвиняемый Дмитрий Веритин обратился к следователю:
– Господин следователь! Отвергаю! Сегодня, в среду 27 августа 1858 года, я, Дмитрий Веригин, категорически отвергаю заключение врача-психиатра. И не помрачением сознания обусловлены мои деяния, а именно: доставка и распространение свободолюбивых изданий Герцена, зовущих народ к свободе. Отдаю себе отчет: если вы, господин следователь, согласитесь с экспертизой врача-психиатра, то и кара смягчится. Но, будучи в здравом уме и твердой памяти, отвергаю заключение врача-психиатра. Однако сейчас поведаю о другом.
Да! Во время Севастопольской кампании, 15 июля 1855 года, вследствие разрыва бомбы я действительно лишился памяти. Даже имени своего не мог назвать. Но за какую-то минуту до этого меня осенила одна догадка…
Следователь. Уж не эта ли ваша «догадка» привела вас на скамью подсудимых?
Обвиняемый. Многие годы потратил я на то, чтоб проникнуть в суть вопроса: почему так коротка человеческая жизнь? И вот за миг до контузии я подошел к разгадке тайны, как продлить человеческую жизнь на тысячу лет и сохранить непроходящую юность.
Следователь. Обвиняемый Веригин! До ваших умствований мне нет дела. Не уклоняйтесь от предъявленного вам обвинения. Итак, будучи в здравом уме и твердой памяти – не так ли? – вы признаете себя виновным в подготовке народного возмущения против монарха?
Обвиняемый. Горе народное повелело мне не остаться безучастным к судьбе несчастного люда. Отец мой был врагом. И с ним я еще ребенком разъезжал по деревням, где он лечил больных. С детства видел я нищету и бедствие народное. На медицинской практике я убедился: почти все болезни в народе идут от голода и бесправия, в которых держат страну царь, правительство и богатые люди…
Следователь. Прекратите, обвиняемый, свои дерзкие речи. Еще одно такое высказывание усилит вашу вину и наказание.
О б в и н я е м ы й. Тут ваша власть. Подтверждаю! Желая помочь избавлению народа от страданий, я принялся за распространение надлежащей литературы среди офицеров, для чего посещал казармы.
С л е д о в а т е л ь. Признаете ли вы себя виновным в том. что для получения крамольных воззваний держали преступную связь с лицами, стоящими вне закона? Посягающими на спокойствие России?
О б в и н я е м ы й. Открыто заявляю: я совершил не одну, а несколько поездок в Лондон к Александру Ивановичу Герцену. Там, в Вольной типографии, я получал литературу. Ездил в последний раз уже после контузии. Как видите, утверждение врача-эксперта о том, что я психически больной, здесь ни при чем.
Следователь. А теперь назовите своих сообщников.
О б в и н я е м ы й. Сообщников у меня не было. Я одни, на свой страх и риск, привозил «Полярную звезду» и прокламации Герцена. И сам распространял пх. Я это уже говорил. Приговора не боюсь. Но долгом жизни моей считаю передать людям мою догадку. Господин следователь! Обращаюсь к вам с единственной просьбой: мои записи и расчет прошу передать в Академию наук. Свыше года я пробыл и тюрьме. За это время я кое-что успел в направления того, как законы биологии проверить математикой. Вот здесь, в этой тетради, некоторые мои вычисления, первые выводы. И я, Веригин, прошу вас особо отметить в протоколе мое пожелание передать в Академию наук эти мои записи и…»
Окольничий остановил меня.
За окном стояла глубокая ночь. Черные деревья спали, каждое на свой лад, и покачивали, каждое по-своему, на легком ветру свои ветви.
– Алхимики… Вспомните о философском камне, о попытках превращать одни элементы в другие, о поисках эликсира жизни. А в наши дни превращение элементов уже не проблема. До эликсира бессмертия еще далеко, а вот этот неизвестный Веригин уже что-то нашел, чтоб продлить жизнь людей на века. Как вы не хотите это видеть?
– Будет вам, Сергей Васильевич, – возразил я. – Этот Веригин просто чудак, помешавшийся на несбыточных мечтах о человеческом счастье. И видит он это счастье в долгой жизни и нескончаемой молодости. Мечтатель!
– А что вы скажете о Ри-ше-лье? – Последнее слово Окольничий сказал раздельно и значительно.
– Какой Ришелье? При чем тут Ришелье? Тот, что был в Одессе? И там еще памятник ему?
– Да нет, другой! Умнейший и образованнейший человек семнадцатого века, кардинал Ришелье посадил в сумасшедший дом Соломона Ко, инженера. А за что? За то, что этот человек (за двести лет до того, как паровоз потащил вагоны железной дороги!) создал учение о механических движущих силах. А при этом еще указал на силу пара. И вот образованнейший Ришелье посчитал этого Ко безумцем и посадил его в дом для умалишенных.
– И вы хотите сказать, что…
– Прошу вас, читайте! – с мольбою сказал Окольничий. – Или давайте я… лучше я.
Окольничий поднес листок к глазам и тихо, как бы оберегая каждое слово, стал читать:
– «…повторяю: заключение врача-эксперта о моей невменяемости из-за потери памяти здесь ни при чем. Я хочу вернуть некогда утраченное человеком тысячелетие жизни. И так сохранить молодость, изгнать старость с нашей земли.
Следователь. Повторяю: мне нет дела до ваших умствований. Извольте отвечать…»
ЗАПИСИ, ВЫВОДЫ – ГДЕ ЖЕ ОНИ?
– Стойте! – воскликнул я. – Бросьте чтение! Записи, выводы – где же они? Где же научная суть этой догадки насчет тысячелетней жизни? Где? – кинулся я на Окольничего. – Научной сути как раз-то и нет. Да и не может быть. Тысячелетняя жизнь. Нескончаемая юность. Чепуха! А вот сюжет! Литературный сюжет – это да!
– Может быть, он в мусорной урне, этот «сюжет»? Ведь ваш кулек из-под вишен – где он?
– А ведь верно!.. Где мои сандалеты? – вскочил я.
– Куда вы?
– На станцию! Искать кулек. За сюжетом – хоть на край света!.. Ох, пряжка отлетела! Ладно, как-нибудь добегу. А ведь уже в девятнадцатом веке… А где берет?.. Ага, вот. – Теперь я задыхался от волнения. – Подумать только, расчеты жизни на тысячу лет!
Налетел легкий ветер. Лунный блик на полу то отодвигался в сторону, то возвращался на место, подчиняясь движениям створок открытого окна.
– Куда делись сигареты?
– Вот они. Перед вами.
– А спички? Ах, в кармане. Ну, пойдем скорее!
– Нет! Я не пойду с вами. Вы же знаете… Завтра у меня такая встреча. Надо подготовиться. Я рад, что вы заинтересовались этим делом. Желаю удачи!
Легкий ночной ветер осторожно и ласково дул в лицо.
– Бездельник! – на ходу сказал я ветру. – Меня не обманешь. Вот теперь ты мягкий, вкрадчивый, теплый, ластишься ко мне, а там, на станции, где были вишни, днем, не ты ли вмиг разметал во все стороны листки, те листки?.. А их, конечно, уже не найти. Успеть бы мне спасти от гибели злосчастный кулек из-под вишен. Какая досада! Ведь собственной рукой я его смял и сунул в мусорную урну.
Я почти бежал мимо темных спящих дач. Вдоль заборов с лаем носились собаки. И был у них, конечно, свой сговор: от дачи к даче они, словно передавая меня одна другой, подбегали к заборам, лаяли, умолкали… лаяли… А я беспорядочно, отрывочно думал…
…Неведомый человек сто лет назад объявил войну времени, пошел наперекор ходу жизни. А что такое жизнь? Движение! Энергия. Древние греки в мифах рассказали, как люди боролись с богом времени Хроносом… Нельзя! Нельзя дать погибнуть такому сюжету.
Выбежав на просеку, я остановился. Перевел дыхание.
Ах, если б только я нашел другие листки!
ВОТ! ВОТ ОН, ЭТОТ КУЛЕК!
Итак, я сидел на скамейке на платформе станции Зеленцово. Ждал рассвета. Тянулась ночь. Клонило к дремоте. Мысли мои метались беспорядочно: то я начинал думать, что через час-другой, может быть, найду нечто такое, о чем люди не догадываются и даже не мечтают. Потом возникла карта Америки. За полтысячелетия до Колумба была открыта викингами Америка. Открыта. Забыта. И вновь открыта. Ведь нередко люди заново открывают то, что когда-то уже было открыто. И кто знает, может быть, пять – десять тысяч лет назад человечество владело секретом долголетня и вечной юности?!
А потом я, наверное, задремал.
И вдруг капля дождя… одна… другая… упали на меня. Раскрыл глаза. Не сразу догадался, где я, зачем я здесь, на этой деревянной скамейке, в этой темноте кромешной… Вспомнил! Но где же луна? Сосны? Они спрятались от меня.
Но рядом со мной в темноте на платформе белела мусорная урна.
Дождик усиливался, и я в испуге метнулся: размоет листки, которые остались в урне. Снял пиджак, прикрыл урну.
Тьма… тьма… И нет ей края и конца. И, кажется, никогда не кончится этот осторожный стук дождя по платформе.
Но вот потянул ветер. Струи дождя стали редкими и косыми. И я подумал: ветер качает струи дождя и гонит их к урне.
Какой сумрачный, печальный рассвет! Какая мокрая дымка стоит над соснами, над лесом… Багровая резкая полоса показалась на востоке.
Я снял пиджак с урны, осмотрелся и тут же, при первых красных лучах солнца, увидел: на самом дне урны, чуть прикрытый какой-то тряпкой, выглядывает крепко смятый кулек из-под вишен. Вот! Вот он! Вот он, этот кулек!
Не помня себя, задохнувшись от волнения, я схватил свою находку. Вот они, желтоватые листы! Один… другой… третий…
Сердце билось сильно и часто. Послышался гудок. Первый поезд на Москву. Скорее домой!
* * *
Наконец я переступил порог своей квартиры. Ранний утренний солнечный зайчик оторвался от моих открытых настежь окон и, радостно скользнув по стенам, стал греть мою руку.
«Вчера я послал тебя за город, а сегодня – нет! Оставайся дома!»
Мой кот Топ, увидев меня, обезумел от радости, метнулся по квартире, спрятался за тяжелую штору и стал мяукать: «Ищи меня, ищи!»
А потом прыгнул ко мне, лизнул ладонь; «Спать! Спать!»
Я сел на диван, расправил листки кулька, но глаза слипались.
Не помню, как уснул. Сразу!
ДОНОС ЗИМОВЕЙКИНА
Были сумерки, когда я проснулся. Солнечный зайчик давно исчез. Топ блаженно спал возле меня.
Я проспал целый день!
Скорей крепкий чай. И скорей – за письменный стол.
Я расправил листки. Ага! Полностью сохранился какой-то донос. Вот он.
«Ваше Превосходительство»
Милостивый Государь мой
Георгий Спиридонович!
На одну минуточку осмелюсь тронуть Ваше драгоценное время, которое отдаете Вы, Ваше Превосходительство, служению Престолу.
Кто я есть? Помните ли Вы, Ваше Превосходительство, Терешу Зимовейкина? Пожалуй, забыли.
Отец мой, дай бог ему царство небесное, будучи лакеем графа Забельского, по их же протекции определил меня в приготовительный класс той 1-й гимназии, где Вы, Ваше Превосходительство, изволили курс учения начинать. Там я с Вами в первом классе учение проходил. А затем богу было угодно, чтоб меня за один проступок исключили из стен гимназии. Я и ушел в небытие. А Вы продолжали курс наук. А о том, как потом господь бог рассудил меня с моей судьбой – сим вопросом не смею Вам, Ваше Превосходительство, надоедать. Суть же моего сего послания состоит вовсе в другом. Она заключена в великом секрете, к которому я приобщился и который я ношу в себе. Секрет сей касается раскрытия тайного крамольного гнезда, прикрытого под сенью науки.
Должен Вам доложить, Ваше Превосходительство, что жительство я им, ею в Малом Кисельном переулке, что возле Рождественского бульвара. Квартира же моя с вывеской: «Живописец-маляр. Пишу любые вывески». Но вывеска – вывеской, главное в том, что у меня во фруктовом саду снимает домик господин профессор химии Александр Сергеевич Порошин. По странности одного случая я получил возможность проникать в любой час в квартиру, где профессор Порошин проживает с дочерью, девицей Натальей, курсисткой.
К моему жильцу с некоторых пор стали в ночной час под покровом тьмы приходить люди и условно к нему в дверь стучать. Следуя ночью же по их следам, когда оные оставляли дом Порошина, я многое узнал.
А теперь уж подхожу к главному. Обширна библиотека господина Порошина. Неисчислимы в ней книги. Но ангелы небесные мне помогли, и я обнаружил, в каком именно переплете какой книги существует, так сказать, двойное дно. И туда-то на один или два дня профессор Порошин и прячет письма и документы, которые ему доставляют подозрительные люди. Прячет. Кому-то показывает. А затем и сжигает. «Пожалуйста, сжигайте! Сжигайте, господин Порошин, – сказал я себе. – А вот я, грешный человек, прочту корреспонденцию вашу и кому следует доложу». И теперь я в разное время копию с какого-либо письма спимаю. И сразу же подлинное письмо в тайное порошпиское дно назад прячу. А что надо – для Вашего департамента берегу.
Для начала доказательства усердия своего, Ваше Превосходительство, препровождаю Вам копию писем некоего Веригина, с коим Порошины дружбу водят, а он есть настоящий враг Престола. Одно письмо самому господину профессору, а другое – дочке его Наталье, хоть она курсистка, но нестриженая.
Льщу себя надеждой, что труд мой на пользу послужит охраны благоденствия матушки-России. И мне, рабу грешному, Вы воздадите по усилиям моим.
Остаюсь, Ваше Превосходительство, нижайший Ваш слуга и прилагаю при сем копию коварного и крамольного письма.
Верный Ваш слуга до гроба
Терентий Зимовейкин».
К этому доносу Терентия Зимовейкина была приложена копия письма, которое служило как бы продолжением мыслей неизвестного искателя, с которыми я уже познакомился.
Было очень жаль, что от большого, по-видимому, письма искателя сохранилось только два листка, да и то не полностью.
Вот это письмо.
ПИСЬМО ПОРОШИНЫМ
«Александр Сергеевич! Дорогой!
Да! Я осужден. Ссылка. На двенадцать лет.
Сидя в тюрьме я… законы биологии проверял… математика убедила меня… человеку энергию, взятую из природы, которая принесет ему неувядающую юность и…
Еще давно я задумался над тем, где, у кого заимствовать энергию? Вокруг нас и рядом с нами бесконечное разнообразие видов энергии. Люди брали у природы только для своих житейских нужд энергию ветра, рек, водопадов. Но человек вовсе не думал, как помочь своему организму в усвоении такой энергии, которая… и жить тысячелетие.
Нет! Народ не ошибся, когда создал сказку про спящее царство, где люди, проспав 100 лет, проснулись такими же молодыми, как до сна… но я… не сказкой, а наукой… догадка пришла…»
Дальше видны были только размытые следы каких-то вы числений, и лишь в самом низу на листе удалось разоб рать следующие слова:
«…дела своего не оставлю… И еще до контузии… какоето чудо… я верю и не верю… мелодия… моя флейта… а кипрей растет и растет…»
Я отложил листок.
Какой-то кипрей… и еще мелодия… Ничего не по нять!
И я взялся за чтение другого листка.
«Бесценный мой друг,
Наташа, единственная моя!
Завтра меня увезут. Мы расстаемся. На долгие годы. Но где бы я ни был – я буду не один, а с тобой. Только – с тобой. И в эту последнюю ночь перед дальней дорогой должен поведать тебе свое самое сокровенное.
Это было 15 июля 1855 года в Севастополе. Из госпиталя в тот день я ушел под самое утро. Я устал. Я был измучен. Было еще темно. Густой сизый туман лежал над морем. В предутренней темноте на крутом берегу я разглядел сосну. Ее верхушку сорвало вражеским ядром. Прислонился к ее стволу. Опустился на землю. Закрыл глаза. Внизу под обрывом жаловалось и ворчало море. И я забылся, задремал.
Но вдруг я очнулся. Открыл глаза. Солнца не было видно: оно еще не взошло. Надо мной на востоке по небу протянулись золотисто-розовые лучи зари.
Помнишь ли, Наташа, миф об Эос? Смутно?
Я напомню. Бессмертная юная заря Эос полюбила Титона. Но он человек! А следовательно – смертей. И потому Эос с мольбой обращается к богу богов, к царственному Зевсу. Она молит Зевса даровать ее супругу бессмертие. Зевс согласился. А годы идут – быстрые годы. Эос все такая же. Она, юная заря, каждое утро восходит на востоке. А супруг ее стал дряхлым, но не умирающим старцем: ведь Зевс дал ему вечную жизнь!
Ax, горевала Эос, почему она тогда же пе испросила у Зевса не только бессмертие, но и вечную юность своему титану.
Да! Ведь, кажется, Зевс, узнав о горе Эос, сжалился и избавил ее от престарелого супруга, превратив его в цикаду. Вот и весь миф.
Пока я думал об Эос, облака на востоке стали пурпурно-золотыми и плыли все быстрее и быстрее. Ветер же гнал гряду за грядой серые облака. А лучи еще не появившегося солнца прорвались сквозь туман, сквозь предутреннюю мглу. Они, эти лучи, дерзко взбирались на облака. Словно золотые волосы, рассыпались по облакам тысячи лучей зари. А cна их собирала, сплетала в густые крутые девичьи локоны. Золотые локоны! Твои локоны… Я воскликнул: «С добрым утром, Наташа!»
Я взял свою маленькую флейту, с которой, как ты знаешь, никогда не расстаюсь. Начал играть. Мелодия складывалась сама собой. И вот мне показалось… верь мне… кипрей словно слушает… растет… и не раз…
В скитаниях моих ты всегда со мной. И твое душевное участие помогает мне отыскивать верный путь.
Твой всегда, Дмитрий.
А все же не могу вспомнить, что подсказала мне мелодия флейты, когда рос кипрей».



