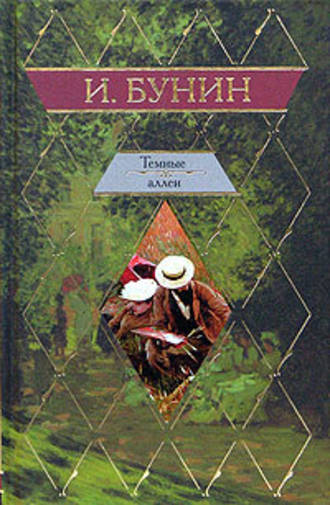
Иван Бунин
Темные аллеи
III
Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, всё больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно-страстных свиданий с ней по ночам, – она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал, – и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым её движением. Всё шло обычным летним порядком: встречи утром, купанье перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад, – они что-нибудь вышивали, сидя в берёзовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой тенистой поляне, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом, – я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня, – в сумерки ужин в столовой… После ужина улан уходил спать, а мы ещё долго сидели в темноте на балконе, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» – и, простясь с ними, я шёл к себе, с холодеющими руками ждал того заветного часа, когда весь дом станет тёмен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня Бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне:
– Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и небось наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоём, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи её иногда гулять по вечерам… Это ужасно, я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на неё глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцепиться при всех тебе в волосы, да что же мне делать?
Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоём в гостиной, где она перелистывала ноты, полулёжа на диване:
– А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.
Она резко взглянула на меня:
– Как это?
– Мой кузен, Алексей Николаич Мещерский…
Она не дала мне договорить:
– Ах, вот что! Ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший чёрными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом… И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?
Я испугался:
– Натали, Натали, за что вы так строги ко мне1 Даже пошутить нельзя! Ну простите меня, – сказал я, беря её руку.
Она не отняла руки и сказала:
– Я до сих пор не понимаю… не знаю вас… Но довольно об этом…
Чтобы не видеть её томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шёл по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:
– Натали, на минутку!
Она подошла к порогу:
– Что?
– Вздохните – какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!
Она помолчала.
– Да.
– Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?
Она гордо пожала плечом:
– Что и почему я могу иметь против вас?
Вечером, лёжа в темноте в плетёных креслах на балконе, мы все трое молчали, – звезды только кое-где мелькали в тёмных облаках, слабо тянуло со стороны реки вялым ветром, там дремотно журчали лягушки.
– К дождю, спать хочется, – сказала Соня, подавляя зевок. – Нянька сказала, народился молодой месяц и теперь с неделю будет «обмываться». – И, помолчав, добавила: – Натали, что вы думаете о первой любви?
Натали откликнулась из темноты:
– Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки.
Соня подумала:
– Ну, и девушки бывают разные… И решительно встала:
– Нет, спать, спать!
– А я ещё подремлю тут, мне ночь нравится, – сказала Натали.
Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони:
– Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами!
Она ответила:
– Да, да, мы нехорошо говорили…
На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шёл тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчёты в кабинете улана, мы сидели в берёзовой аллее и пытались продолжать чтение вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на её левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилегавшие к ней выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживлённее, не понимая ни слова. Наконец сказал:
– Ну теперь почитайте вы…
Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки её грудей, отложила шитьё и, опять наклонись, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на её руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку её голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берёз, красновато-серый дятел…
– Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы…
Она продолжала читать.
– Натали, дятел, посмотрите!
Она взглянула вверх:
– Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела… Не мешайте читать.
Я помолчал, потом снова:
– Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.
– Что, где?
Я указал ей на скамью между нами, на засохший птичий известковый помёт:
– Правда?
И взял и сжал её руку, бормоча и смеясь от счастья:
– Натали, Натали!
Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:
– Но вы же любите Соню!
Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отрёкся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:
– Это неправда?
– Неправда, неправда! Я её очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства!
IV
На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.
– Соня, что с Натали? – спросил улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись:
– Лежит все утро в распашонке, нечёсаная, по лицу видно, что ревела, принесли ей кофе – не допила… Что такое? «Голова болит». Уж не влюбилась ли!
– Очень просто, – сказал улан бодро, с одобрительным намёком глянув на меня, но отрицая головой.
Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зелёного, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки чёрные, на высоких каблучках, – я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал «Исторический вестник», несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущённой приветливостью:
– Добрый вечер. Идём чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.
– Как? То вы, то она?
– У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок…
– До чего удивительно это зелёное при ваших глазах и волосах! – сказал я. И вдруг спросил, краснея: – Вы вчера мне поверили?
Она тоже покраснела – тонко и ало – и отвернулась:
– Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам… и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идём…
К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:
– Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче ещё могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.
– Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?
– Ты глуп!
Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони!
С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали – я никогда ещё не видал её такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик-повар и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнущей мечтой: не навек же я связан с Соней, не век же мне – да и Натали – гостить тут, через неделю-другую я всё равно должен буду уехать – и тогда конец моим мучениям… найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернётся домой… Уехать от Сони, да ещё с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на её любовь и руку, будет, конечно, очень больно, – разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и её? – но что же делать, этого, рано или поздно, всё равно не избежишь… И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то, я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее – терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, – как нарочно, дня три шёл дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи, – но крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы…
Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:
– Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное… Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось и как сладко пахнет цветами…
Я, втайне раздражаясь, отвечал:
– Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.
Она била меня по руке:
– Не смей возражать больной!
Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только ещё бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина ещё не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христя понесла со стола самовар в поварскую:
– Соня сердится, что я все сижу возле неё, что вы все один и один. Она ещё не совсем поправилась, а вы без неё скучаете.
– Я скучаю только без вас, – ответил я. – Когда вас нет…
Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:
– Но мы же условились не ссориться больше… Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчёт месяца, слава Богу, не сбылись, ночь будет прекрасная…
– Соне меня жаль, а вам? Нисколько?
– Страшно жаль, – ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. – Но, слава Богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать…
При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! это просто только ласковое слово! Я пошёл к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше её, на степном голом взгорье. Шлях вёл в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то тёплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, не суливший ничего доброго: блестела одна половина его, но как прозрачная паутина видна была и другая, а все вместе напоминало жёлудь.
За ужином – ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, – я сказал улану:
– Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.
– Почему, мой друг?
– Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас…
– Это почему?
Натали тоже вскинула на меня глаза:
– Вы собираетесь уезжать?
Я притворно засмеялся:
– Не могу же я…
Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:
– Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.
– Я не имею никаких прав на Виталия Петровича, – сказала Натали.
Я жалобно воскликнул:
– Дядя, запретите Натали называть меня так! Улан хлопнул ладонью по столу:
– Запрещаю. И довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчёт дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.
– В поле было уже слишком чисто, ясно, – сказал я. – И месяц очень чист наполовину и похож на жёлудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака…
Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:
– Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс…
В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая её, в унынии думая: всё это вздор, если у неё и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьёзные, переменчивые, мимолётные… Молодой месяц, тоже чистый, без паутины, играл все выше и ярче в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:
– Вы ещё не спите?
– Но вы же мне сказали…
– Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.
Я пошёл за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подёргиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес берёзовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:
– Как волшебно блестят вдали берёзы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шёлкового блеска берёзовых стволов в его глубине…
Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами:
– Вы правда уезжаете?
– Да, пора.
– Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.
– Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернётесь домой?
Она промолчала. Я взял её руки, поцеловал, весь замирая, правую.
– Натали…
– Да, да, я вас люблю, – сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошёл за ней.
– Уезжайте завтра же, – сказала она на ходу, не оборачиваясь. – Я вернусь домой через несколько дней.
V
Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелёно-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по тёмным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я всё-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты – я увидал это при том зелёно-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, и делавшее огромными и видимыми до последнего переплёта все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшееся густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошёл в свою комнату, из темноты послышался сердитый шёпот:
– Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь…
Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.
– Или нет, нет, не надо, – поспешно сказала она, – иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь…
Я покорно сел и обнял её за холодные плечи. Она зашептала:
– Ну поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!
И с силой откинула меня и себя на подушки дивана. В ту же минуту на пороге растворённой двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидала нас, но всё-таки бессознательно крикнула:
– Соня, где ты? Я страшно боюсь…
И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.
VI
Через год она вышла за Мещерского. Венчали её в его Благодатном при пустой церкви – и мы и прочие родные и знакомые с его и с её стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.
В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил Святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришёл весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в тёплый, слишком даже тёплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с её замужества, я постепенно оправился, – во всяком случае, привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все.
Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с её хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Ещё свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошёл в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, – и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь чёрен блестящими чёрными волосами и фраком и лёгок той лёгкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой причёске, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение чёрные ресницы её взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул её, губы её приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял… В двери залы наискось против меня, ещё совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах, – хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше её ростом. Я вошёл, с поклоном протянул сторублёвую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжёлую бутылку и нерешительно переглянулись – откупоренных бутылок ещё не было. Я зашёл за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу – Gaudeamus igitur![18] – остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:
– Ой, но вы и так страшно бледный! Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвётся сердце…
И прошло ещё полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привёз её телеграмму из Благодатного: «Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара». Отец перекрестился и сказал:
– Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но всё-таки это ужасно. Ведь ему ещё и сорока не было. И её ужасно жаль – вдова в такие годы, с ребёнком на руках… Никогда её не видал, – он был так мил, что даже ни разу не привёз её ко мне, – но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтораста вёрст, конечно, не можем, надо ехать тебе…
Отказаться было нельзя, – в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я её увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.
Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарёю, лошади из Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я ещё издали увидал, что по западной стене дома, обращённой к ещё светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, – и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего – полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце, у настежь раскрытых в сени дверей, стоймя прислонена была к стене большая жёлтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о её красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью – как вступить в этот дом, вновь увидать её лицом к лицу после трёх лет разлуки и уже вдовой, матерью! И всё же я вошёл в сумрак и ладан этой страшной залы, испещрённой жёлтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озарённый сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трёх высоких церковных свечей, – вошёл под возгласы и пение священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть жёлтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть её. Кто-то подал мне зажжённую свечу, я взял и стал держать её, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, всё-таки увидал её, – впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей её щеку и золотистость волос, – и уже как от иконы не мог оторвать от неё глаз. Когда всё смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать её руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность её чёрного платья, делавшего её особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя её руку, сказал едва слышным голосом всё, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал ещё гимназистом, приезжая в Благодатное, – там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:
– Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.
Утром, после отпевания и погребения, я немедля уехал. Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.


