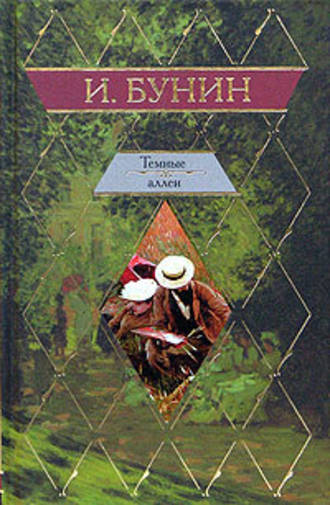
Иван Бунин
Темные аллеи
ГАЛЯ ГАНСКАЯ
Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.
– А в мои золотые времена Париж весной был, конечно, ещё прекраснее, – говорил он. – И не потому только, что я был молод, – сам Париж был совсем другой. Подумай: ни одного автомобиля. И разве так, как теперь, жил Париж!
– А мне почему-то вспомнилась одесская весна, – сказал моряк. – Ты, как одессит, ещё лучше меня знаешь всю её совершенно особенную прелесть – это смешение уже горячего солнца и морской ещё зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской…
Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Garcon, un demi!»[14] – и живо обернулся к нему:
– Извини, я тебя перебил. Представь себе – говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совершенно прав, – одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские, они у меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной… Помнишь Галю Ганскую? Ты видел её где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но всё равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдётся какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное моё воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, всё-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью…
Я знал её ещё подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии неудавшийся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом – у него была усадьба в Отраде – старыми и новыми картинами, скупая всё, что ему нравилось, всюду, где возможно. Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вежливый, внутренне очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами: одно время все мы, молодые одесские художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростёртыми объятиями, держался с нами, при всей разнице наших лет, совсем по-товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Гале было тогда лет тринадцать – четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как девочкой: мила, резва, грациозна была она на редкость, личико с русыми локонами вдоль щёк, как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вбежала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон:
– Ой, ой, что за девчонка растёт у меня, друзья мои! Боюсь я за неё!
Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и все до единого, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоело нам в Отраде – верно, его непрестанные разговоры об искусстве и о том, что он наконец открыл ещё один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провёл две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щёголем: цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности. И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую и на углу, возле кофейни Либмана, встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня, – на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным щебетом, точно каким-то солнечным дождём, – и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всём новеньком, светло-сером, весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь неё сияют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упрёки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, суёт его к лицу себе. – Хотите присядем, хотите шоколаду? – С удовольствием. – Подняла вуальку, пьёт шоколад, празднично поглядывает и все расспрашивает о Париже, а я все гляжу на неё. – Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? – Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещиц. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника, и живу я в двух шагах отсюда. – Ужасно обрадовалась: – Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной! – Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру её под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеётся. – Галя, – говорю, – ведь мне можно называть вас Галей? – Быстро и серьёзно отвечает: вам можно. – Галя, что с вами сделалось? – А что? – Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны просто на удивление! – Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьёзно: – Это ещё что, то ли будет! – Ты помнишь тёмную, узкую лестницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идёт, шурша нижней шёлковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шёпотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и все Париж… И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали! – Хотите рюмочку портвейна и печений? – Не знаю… – Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял её ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? – Но я же в перчатке… – Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вуальку, без выражения смотрит сквозь неё аквамариновыми глазами, тихо говорит: ну, мне пора. – Нет, говорю, сперва посидим немного, я вас ещё не рассмотрел хорошенько. Сел и посадил её к себе на колени, – знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже лёгоньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел я на неё на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам, говорю, вот эти фиалки нравятся? – Я не понимаю. – Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. – Опустив глаза, смеётся: – У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими. – Пусть так, но как же иначе сказать? – Не знаю… – И слегка болтает висящими нарядными ножками, детские губки полуоткрыты, поблёскивают… Поднял вуальку, отклонил головку, поцеловал – ещё немного отклонила. Пошёл по скользкому шёлковому зеленоватому чулку вверх, до застёжки на нём, до резинки, отстегнул её, поцеловал тёплое розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик – стала чуть-чуть кусать мне губы…
Моряк с усмешкой покачал головой:
– Vieux satyre![15]
– Не говори глупостей, – сказал художник. – Мне все это очень больно вспоминать.
– Ну, хорошо, рассказывай дальше.
– Дальше было то, что я не видал её целый год. Однажды, тоже весной, пошёл наконец в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, в бороде серебрится, но всё та же одушевлённость в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы – летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди – старается, бедняк, не отстать от века. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперёд вы сделали! Крепится, но сияет, как мальчик. – Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! – А где дочка? – Уехала в город. Вы её не узнаете! Не девочка, а уже девушка и, главное, совсем, совсем другая: выросла, вытянулась, як та тополя! – Вот не повезло, думаю, я и пошёл-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть её, и вот, как нарочно, она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую, душистую бороду, наобещал быть непременно в следующее воскресенье, вышел – а навстречу мне она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! – А я ещё больше, говорю, папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя, уже не тополёк, а целый тополь, – так оно и есть. – И действительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные, волосы сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком, в глазах уже нет прежней наивности, личико удлинилось… – Да, я ростом даже немножко выше вас. – Я только качаю головой: правда, правда… Пройдёмся, говорю, к морю. – Пройдёмся. – Пошли между садами переулком, вижу, всё время чувствует, что, говоря, что попало, я не свожу с неё глаз. Идёт, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв – подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем, а море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зелёной волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом, Понт Эвксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждём, она, очевидно, думает то же, что и я, – как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял её за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю губы – старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдаётся, даёт мне их. И все это молча – ни я, ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убеждённо говорит:
– Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй. Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.
– Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? – спросил моряк.
– До конца не было. Целовались ужасно, ну и всё прочее, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем по-детски – и страшно и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся: ну не надо, не надо, не хотите, так не надо… Стал нежно целовать ручки, успокоилась…
– Но как же после этого ты целый год не видал её?
– А чёрт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.
– Плохой же ты был Мопассан.
– Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видал я её ещё с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче – эта бессарабская осень нечто божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, до красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана – и, представь себе, опять навстречу она. Подходит ко мне как ни в чём не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое место, опять Либман!»
– Что это вы такая весёлая? Страшно рад вас видеть, но что с вами?
– Не знаю. После моря всё время ног под собой не чую от удовольствия бегать по городу. Загорела и ещё вытянулась – правда?
Смотрю – правда, и, главное, такая весёлость и свобода в разговоре, в смехе и во всём обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит:
– У вас ещё есть портвейн и печенья?
– Есть.
– Я опять хочу смотреть вашу мастерскую. Можно?
– Господи Боже мой! Ещё бы!
– Ну, так идём. И быстро, быстро!
На лестнице я её поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довёл её до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:
– Но послушайте, ведь это же безумие… Я с ума сошла…
А сама уже сдёрнула соломенную шляпку и бросила её в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвитая чёлка, лицо в лёгком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно… Я стал как попало раздевать её, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с неё шёлковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде её розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски кинул её на подушки дивана, глаза у ней почернели и ещё больше расширились, губы горячечно раскрылись, – как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно… Но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога:
– Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь?
– Да. Так что ж с того?
– Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать?
– Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.
– При папе? Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь!
Я по-дурацки вспыхнул:
– Нет, поеду.
– Нет, не поедешь.
– А я тебе говорю, что поеду.
– Это твоё последнее слово?
– Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя…
– Я вам не Галя. Я вас теперь поняла – все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь всё равно. Дело уже не в том!
И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался: нет, пусть придёт в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что не хочу огорчать её, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани:
– Ты знаешь – у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, чёрт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца – помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось – непостижимо!
– Я хотел застрелиться, – тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. – Чуть с ума не сошёл…
28 октября 1940
ГЕНРИХ
В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу – заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было ещё светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролётами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажжённых фонарей.
У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:
– Отвезёшь меня на Брестский.
– Слушаю-с, – ответил Касаткин. – За границу, значит, отправляетесь.
– За границу.
Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:
– Охота пуще неволи!
Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своём мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх, – вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет… в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ… а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча… остановишься где-нибудь в пути, – кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку… Потом ночь, Италия… Утром, по дороге вдоль моря к Ницце, то пролёты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике… И он быстро пошёл по коврам тёплых коридоров Лоскутной.
В номере было тоже тепло, приятно. В окна ещё светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Всё было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно – жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли…
Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зелёных глаз.
– Едешь?
– Еду, Надюша…
Она вздохнула и упала в кресло, расстёгивая шубку.
– Знаешь, я, слава Богу, ночью заболела… Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?
– Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой…
– А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!
– А я? Но ты же знаешь, что это невозможно…
Он тесно сел к ней в кресло, целуя её в тёплую шейку, и почувствовал на своей щеке её слезы.
– Надюша, что же это?
Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:
– Нет, нет, я не буду… Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.
– Ты у меня умница, – сказал он, умиляясь её серьёзностью и её детским профилем – чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. – Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.
Она топнула в пол:
– Не смей мне говорить о других женщинах!
И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:
– На минутку… Нынче ещё можно…
Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямой чёрно-маслянистой каракулевой шубке и чёрном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щёк чёрные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своём великолепии чёрными глазами.
– Всё-таки уезжаешь, негодяй, – безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком. – Погоди, пожалеешь, другой такой не наживёшь, останешься со своей дурочкой поэтессой.
– Эта дурочка ещё совсем ребёнок, Ли, – как тебе не грех думать Бог знает что.
– Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это Бог знает что, я тебя серной кислотой оболью.
Из-под готового поезда, сверху освещённого матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнущий каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пёстром блеске стен, обитых тиснёной кожей, и толстых, зернистых дверных стёкол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещённое настольной лампочкой под шёлковым красным абажуром.
– Какой ты счастливый! – сказала Ли. – Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?
И она подёргала дверь в соседнее купе:
– Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок…
Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щёки и шепча:
– Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!
За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и чёрные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскалённую топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой причёской рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.
– Ну что, напрощался? Я всё слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.
– Начинаешь ревновать, Генрих?
– Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала её полной отставки.
– Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу отставить такую! А потом, ведь переношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.
– Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.
– Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.
Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив нога на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками:
– Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчётливый и пойдёт на мирный разрыв. Кого он найдёт, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.
– Товарищи… – сказал он, радостно глядя на её тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. – Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всём действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.
– А где ты был вчера вечером?
– Вечером? Дома.
– А с кем? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон – Степы, Груши, их роковые очи…
– А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?
– Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?
– Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша…
– Ну, ну, опиши мне её.
– Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша – плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то жёлтом крупном ожерелье, плоский живот… это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шёлковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь – как подберёт на руки шаль из тяжёлого старого шелка и пойдёт под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, – просто несчастье! Но идём обедать.
Она встала, легонько усмехнувшись:
– Идём. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что Бог даёт. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!
– И одна совсем лишняя…
Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.
Он вернулся один, – сидел в ресторане, курил, – она ушла вперёд. Когда вернулся, почувствовал в тёплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное бельё, поставила на столик вино, положила плетённую из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у неё была тонкая, бедра полновесные, щиколки лёгкие, точёные. Он долго целовал её стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.
– А Ли? – сказала она. – А Маша?
Ночью, лёжа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:
– Ax, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции – и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеком»! Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, Божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях… Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц её, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».
– А у Ли, – спросила Генрих, – груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.
– Да.
– Она глупа?
– Нет… Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несёт такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю её с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой… Но ты мне надоела с Ли.
– Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.
– И я этого больше не хочу. И ещё раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию…
– А почему не в Ниццу?
– Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное – поедем вместе!
– Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.
– Да, правда. Я зол на неё из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто…» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто… И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке… Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пёстрых от снега гранитных дьяволов… Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зелёной речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно тёплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы… словом, дно ущелья, где тысячу лет живёт эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мёртвый ангел… А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощёкие, в чёрных корсажах, в красных шерстяных чулках…
– Ох, уж мне эти поэты! – сказала она с ласковым зевком. – И опять девки, девки… Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю…
В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождём, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.
На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, всё казалось очень мало, – вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, – и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усечённым конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шёл, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зелёной тирольской шляпе с пёстрым пёрышком сзади. Генрих проснулась и шёпотом попросила опустить штору. Он опустил и лёг в её тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.
– Генрих, что ты? – сказал он.
– Не знаю, милый, – ответила она тихо. – Я на рассвете часто плачу. Проснёшься, и так вдруг станет жалко себя… Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца… А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки…
– Да, да, и пронзительные цимбалы… Вот я и говорю: пошли австрияка к чёрту и поедем дальше.
– Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения – ночью, на улице, под газовым фонарём. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зелёное, оливковое, фисташковое… Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими…
– Слушай, правда?
Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.
– Генрих, я не узнаю тебя.
– И я себя. Но иди, иди ко мне.
– Погоди…
– Нет, нет, сию минуту!
– Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?
– Нынче вечером, нынче же вечером!
Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.
И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задёргала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за жёлтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восстававших в своём торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, ещё утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелёными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в тёмной теснине, возле итальянской границы, среди чёрного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в закопчённую пасть туннеля. Потом – все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале – одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня – вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах…


