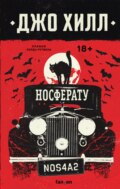Джо Хилл
Странная погода
Глава 3
Я брел куда глаза глядят, не замечая, куда я иду и иду ли вообще. Мне было жарко, я был ошарашен, и у меня в кармашке тенниски лежали скомканные десять долларов, деньги, которые мне были не нужны. Ноги, обутые в чумазые кроссовки, несли меня к ближайшему месту, где я мог от этих денег избавиться.
На той стороне шоссе, на въезде в Золотые Сады, стояла заправка «Мобил»: дюжина колонок и прохладный магазин всякой всячины, включая вяленое мясо, чипсы всех сортов и, если ваш возраст позволяет, эротику в глянце. В то лето я пил бурду со льдом собственного замеса: 32-унциевый[7] стакан льда, залитого кока-колой и сбрызнутого струей чего-то спиртосодержащего под названием «Полярная голубизна», по цвету очень похожего на жидкость для мойки автомобильных стекол, а по вкусу отдававшего вишней и немного арбузом. Я от этой бурды был без ума, но, попадись она мне сейчас, я к ней, наверное, и не притронулся бы. Думаю, моему сорокалетнему нёбу она напомнила бы вкус юношеской печали.
Душа моя алкала «Полярной голубизны на кока-коле со льдом», о чем я не ведал, пока не увидел вращающегося красного Пегаса «Мобил» на сорокафутовом[8] шесте. Стоянка недавно была залита новым гудроном, черным и толстым, словно торт. Жар, вибрируя, восходил от него, отчего все вокруг виделось в зыбком свете, эдаким галлюцинирующим оазисом, привидевшимся человеку, умирающему от жажды. Я не заметил стоявшего у 10-й колонки белого «Кадиллака» и не видел топчущегося рядом с ним парнишу, пока тот не заговорил со мной.
– Послушай, – сказал он, и когда я и ухом не повел (меня дурманил солнечный удар миража), он вновь окликнул, уже резче: – Эй, слышь, Колобок!
На этот раз я его услышал. Мой радар был настроен на любой звук, свидетельствовавший об опасности издевательства, и он засек и «Колобок», и добродушное презрение в голосе, его произнесшем.
Особого простора вышучивать внешность других людей у парниши не было. Одет он был вполне прилично, пусть наряд его и выглядел неуместным и больше подходил бы при входе в какой-нибудь ночной клуб Сан-Франциско, а вовсе не на заправке «Мобил» у черта на куличках на калифорнийской окраине. Одет он был в черную шелковую рубашку с короткими рукавами и прозрачными красными пуговицами, черные брюки с остро отутюженными складками, черные ковбойские сапоги, расшитые красной и белой ниткой.
Зато был он отчаянно безобразен: подбородок тянулся до середины длинной шеи, щеки коробились от застарелых прыщей. Сильно загоревшие руки были покрыты черными татуировками, похожими на рукописные строки, змеившиеся вокруг руки от локтей до кистей. Был на нем и галстук-ленточка (они были модны в 80-е) с яркой заколкой в виде свернувшегося желтоватого скорпиона.
– Да, сэр? – обратился я к нему.
– Ты туда? – Кивок в сторону магазина. – Возьмешь себе бисквит с кремом или еще что? – Он сунул наконечник шланга в топливный бак своего большого белого авто.
– Да, сэр, – кивнул я, про себя подумав: «Соси крем с моего бисквита, засранец».
Он залез в передний карман и извлек оттуда пачку желтеющих грязных купюр. Выбрал из нее двадцатку.
– Вот что. Заходишь в магазин, просишь включить десятую колонку и… эй, Село Озёрное, я с тобой разговариваю. Послушай-ка.
Я отвлекся на некоторое время, взгляд мой ухватился за предмет на багажнике его «Кадиллака»: моментальный фотографический аппарат «Полароид».
Вы, наверное, знаете, на что похож «Полароид», даже если вы чересчур молоды, чтобы когда-то пользоваться им или видеть, как им пользуются. Подлинный моментальный «Полароид» настолько узнаваем и представляет собой до того громадный технический скачок вперед, что сделался иконой века. Он принадлежит 80-м так же, как Пакман[9] и Рейган.
В наше время фотоаппарат у каждого в кармане. Представление о том, чтобы щелкнуть фотку и тут же получить возможность рассмотреть ее, не поражает абсолютно ничье воображение. Зато летом 1988 года «Полароид» был одним из очень немногих устройств, позволявших сделать снимок и проявить его сразу же. Камера выталкивала толстый белый квадрат с серым прямоугольником пленки посредине, и через пару минут (быстрее, если помахивать квадратом) изображение выплывало из мрака и отвердевало в фотографию. Тогда это было последнее слово техники.
Увидев фотоаппарат, я понял, что это он, тот малый… Человек-Полароид, от кого пряталась миссис Бьюкс. Лощеный проныра на своем белом «Кадиллаке» с красным откидным верхом и красными сиденьями. У него и цветовой код был, как у пакостника.
Я понимал: что бы ни уверяла миссис Бьюкс про этого парнишу, на деле, конечно, никакой основы под этим не было, так – перебой двигателя, что поперхнулся и заглох. И все же кое-что из сказанного ею прилипло к памяти. Не позволяй ему фотографировать себя. Когда я сложил все это вместе (когда убедился, что Человек-Полароид был не порождением старческой фантазии, а реальным хлыщом, стоящим прямо передо мной), у меня по спине и рукам мурашки побежали, как от холода.
– Э-э… говорите, мистер. Я вас слушаю.
– Вот, – сказал он. – Бери двадцатку и попроси раскочегарить эту колонку. Моего «кадика» жажда мучит, но вот что я скажу тебе, детеныш. Если останется сдача, она вся твоя. Купи себе диетический справочник.
Я даже не зарумянился. Удар был паскудный, только при моей растерянности он тут же рикошетом отскочил от моего сознания.
Глянув еще разок, я понял: то был не «Полароид». Не очень похож. Мне этот аппарат был очень хорошо известен (один такой я как-то разбирал), и я понял, что этот в чем-то изощренно иной. Был он, для начала, черным, с красным передом – как бы в тон с машиной и одеждой. Но еще он был просто… другой. Лощеней. Лежал на багажнике так, что мистеру Лощеному стоило лишь руку протянуть, и был повернут слегка в сторону от меня, так что марки аппарата я не видел. «Коника»?» – гадал я. Больше всего поразило (сразу же!), что у «Полароидов» есть приемник на петельках, который открывается спереди и в который вставляется блок с мгновенными негативами. А вот как этот заряжается, я понять не мог. Аппарат, казалось, был цельным и гладким.
Он увидел, что я смотрю на аппарат, и поступил удивительно: словно защищая, положил на него руку, так какая-нибудь пожилая леди покрепче прижимает к себе кошелек, проходя мимо уличных бандитов. А облезлую на вид двадцатку протянул другой рукой.
Я обошел машину сзади и протянул руку за деньгами. Взгляд скользнул по надписи, выколотой у него вокруг руки. Буквы были мне незнакомые, но походили на иврит.
– Крутая наколка, – заметил я. – Это что за язык?
– Финикийский.
– А что говорится?
– Говорится, не вздумай мудить со мной. Более-менее.
Сунув деньги в кармашек тенниски, я пошел прочь от него, двигаясь задом наперед. Было чересчур страшно повернуться к нему спиной.
Я не видел, куда иду, сбился с пути, ткнулся в заднее крыло и едва не упал. Положил руку на багажник, чтобы на ногах удержаться, и глянул вокруг – вот так я и увидел эти фотоальбомы.
Их, может, с дюжину было сложено на заднем сиденье. Один был раскрыт, и я увидел сделанные «Полароидом» фотки в прозрачных кармашках, по четыре на каждом листе. В самих фото не было ничего примечательного. Сильно высвеченный снимок старика, задувающего свечи на торте в день рождения. Намокший под дождем, перепачканный щенок-корги, смотрящий в объектив трагичными, голодными глазами. Пижон с развитой мускулатурой и в забавной оранжевой майке с длинными бретельками, сидящий на капоте машины с кузовом для ралли – прямо из «Рыцаря дорог»[10].
Последний привлек мой взор. Было какое-то смутное ощущение, что я знал этого молодца в борцовской майке с длинными бретельками. Я гадал, не видел ли его по телеку, не тот ли он борец, что выскочил на ковер побороться несколько раундов с Халком Хоганом[11].
– У вас много снимков, – заметил я.
– Это чем я занимаюсь. Я разведчик.
– Разведчик?
– Для кино. Когда вижу интересное местечко, фотографирую его. – Он приподнял уголок рта, открыв отвратительный зуб. – А что? Хочешь в кино сняться, детеныш? Хочешь, я тебя сфоткаю? Слушай, судьбу не угадаешь. Может, кому-то из помощников по кастингу твое личико и понравится. А там, глядишь, – и Голливуд, малыш. – Он бегал пальцами по аппарату, что мне совсем не нравилось, с какой-то дерганой истовостью.
Даже в теоретически более невинные времена конца 1980-х я не очень-то лез позировать для фото, которые снимал парниша, выглядевший так, будто он купил себе одежду на каком-то базаре для педофилов. А потом ведь и Шелли еще говорила мне: не позволяй ему фотографировать себя. Ее предостережение ядовитым пауком с мохнатыми лапами ползло по моему хребту.
– Я так не думаю, – сказал я. – Может, будет слишком трудно уместить меня всего на одном снимке. – И я обеими руками указал на свое пузо, выпиравшее из рубашки.
На миг глаза на его изъеденном лице вылупились, потом он заржал грубым, лошадиным смехом, в котором неверие мешалось с подлинным весельем. Он наставил на меня указательный палец, при этом изобразил большим пальцем курок револьвера. – Ты в порядке, детеныш. Ты мне нравишься. Только смотри не потеряйся на пути к кассиру.
Нетвердой походкой я пошел от него – и не только потому, что бежал от паскуды с уродливым ртом и еще более уродливым лицом. Я был ребенком разумным. Читал Айзека Азимова, а героем, которому я поклонялся, был Карл Саган, я чувствовал духовное родство с Мэтлоком Энди Гриффта[12]. Я знал, что представления Шелли Бьюкс о Человеке-Полароиде (только я его мысленно уже называл Финикийцем) были путаными фантазиями ума, расползающегося на части. Ее предостережения не стоило и вспоминать… но они вспоминались. И успели (в последние несколько мгновений) обрести едва ли не вещую силу и тревожили меня столько же, сколько тревожило бы то, что мне досталось 13-е место на рейс 1313 в пятницу, 13-го (и какая разница, что 13 число весьма крутое, не какое-то там простое число или число Фибоначчи, а еще и эмрип, что означает, что оно остается простым, если в нем переставить цифры и превратить в 31).
Я зашел в магазин, извлек деньги из кармашка и бросил их на прилавок.
– Пустите их на колонку десять для милого парня на «Кадиллаке», – сказал я миссис Мацузака, стоявшей у кассы рядом со своим сыном Ёси.
Только никто, кроме нее самой, не звал парня Ёси: он проходил как Мэт (с одним «т»).
У Мэта была бритая голова, длинные жилистые руки и гипертрофированная немногословная беззаботность горожанина-серфингиста. Был он пятью годами старше меня и в конце лета отправлялся в Беркли[13]. Стремился освободить родителей от бизнеса, изобретя автомобиль, которому не нужно горючее.
– Привет, Фиглик, – произнес он и удостоил меня кивка, что меня несколько развеселило. Да-а, согласен, он назвал меня Фигликом… но я этого на свой счет не принял. Для большинства ребят то было лишь мое имя. Может, нынче оно и звучит по-дикарски гомофобно (так оно и было!), только в 1988 году, в эру СПИДа и Эдди Мёрфи, назвать кого-то гомиком или педиком считалось верхом остроумия. По меркам тех времен, Мэт был образцом чувственности. Он преданно, от корки до корки, читал «Популярную механику» и иногда, когда я забредал в магазин «Мобил», делился со мной своими побочными идеями, потому как находил, что кое в чем из этого я, по его мнению, секу: прототипом ракетного ранца или личной одноместной подлодки. Не хочу выставлять его в неверном свете. Мы не были друзьями. Ему было 17, и он был крутой. Мне было 13, и я был отчаянно не крутой. Дружба между нами была едва ли не так же вероятна, как и условленное свидание с Тони Китэйн[14]. Но, уверен, он чувствовал ко мне что-то вроде жалостливого расположения, что-то смутно влекло его заботиться обо мне, может, потому, что мы оба в душе были помешаны на технике. В те времена я был признателен за любое проявление доброты со стороны других ребят.
Я направился приготовить себе сверхбольшую порцию своей «Полярной голубизны на кока-коле со льдом». Она нужна была мне как никогда. Желудок мой волновался и бурчал, хотелось успокоить его толикой шипучки.
Не успел я добавить последнюю струйку неоновой голубизны, как Финикиец толкнул рукой входную дверь, да так злобно толкнул, будто сводил с дверью личные счеты. Распахнутая дверь скрыла от него содовый дозатор, и только поэтому он не увидел меня, обводя взглядом помещение. Не оступившись, он сразу же направился к миссис Мацузака.
– Что человеку сделать, чтобы в этом кабаке ему залили в бак гребаный бензин? Почему вы отключили колонку?
Миссис Мацузака ростом не дотягивала до пяти футов, была изящно сложена и владела стертыми, недоуменными выражениями, обычными для иммигрантов первого поколения, которые язык понимают прекрасно, но время от времени почитают за лучшее изобразить изумление. Она слегка приподняла свои плечики и предоставила Мэту вести разговор за нее.
– Вы заплатили десять долларов, браток, и получили горючего на десять долларов, – сказал Мэт, сидя на высоком табурете за прилавком под сигаретными стойками.
– Из вас двоих кто-нибудь знает, как считать по-английски? – спросил Финикиец. – Я, вашу мать, детеныша послал с двадцаткой.
Я типа всю свою «Полярную голубизну на кока-коле со льдом» залпом проглотил. Кровь во мне волнами заходила от ледяного шока. Я хлопнул ладонью по кармашку на тенниске, трепеща от ужаса. Я сразу же понял, что я натворил. Я залез в кармашек, нащупал там денежку и, не глядя, швырнул ее на прилавок. Только отдал-то я десятку, которую Ларри Бьюкс всучил мне раньше, а не двадцатку, врученную мне Финикийцем на стоянке.
Единственное, что пришло мне в голову сделать, это унизиться – как можно быстрее и полнее. Я готов был заплакать, а ведь Финикиец еще и не заорал на меня. Я выкатился на средину магазина, задев бедром проволочную стойку с картофельными чипсами. Пакетики разлетелись во все стороны. Я выскреб двадцатку из кармашка тенниски.
– Ой, простите, ой, простите, я виноват, ой, простите. Ой, это я напортачил. Я виноват. Я виноват. Я даже не взглянул на деньги, когда бросил их на прилавок, мистер, должно быть, положил свою десятку вместо вашей двадцатки. Клянусь, я клянусь, я не…
– Когда я сказал, что ты можешь оставить сдачу себе и купить на нее таблеток для похудания, я не имел в виду, что ты можешь отхерачить у меня червонец. – Он поднял руку, словно намеревался хлопнуть меня по макушке.
Пришел он со своим фотоаппаратом: тот был зажат у него в другой руке, – и, как я ни трепетал, а все ж подумал, странно, что он его попросту в машине не оставил.
– Да нет же, правда, я никогда, клянусь Богом… – балаболил я, а в глазах у меня опасно защипало, того и гляди слезы брызнут. В опрометчивости своей я поставил 32-унциевый стакан «Голубизны» на край прилавка, и в тот миг, когда я его отпустил, ситуация из просто плохой сделалась гораздо, гораздо хуже. Стакан перевернулся и упал, ударился об пол, забрызгал ему брюки в паху и оросил сапфировыми каплями его фотоаппарат.
– Твою мать! – вскричал Финикиец и подался назад, пританцовывая на мысках ковбойских сапог. – Ты что, твою мать, дебил, ты, громадная куча дерьма?!
– Эй, – прикрикнула мама Мэта, тыча пальчиком в Финикийца. – Эй, эй, эй… никаких драк в магазине, я полицию вызову!
Финикиец опустил взгляд на запятнанную голубым одежду, потом вновь поднял его на меня. Лицо его помрачнело. Положив не похожий на себя «Полароид» на прилавок, он шагнул ко мне. Не знаю, каковы были его намерения, только левая нога его подвернулась в луже «Полярной голубизны на кока-коле со льдом», и он зашатался. У сапог этих были высокие кубинские каблуки, на вид они казались надежными, однако, должно быть, ходить на них было не легче, чем вышагивать на шестидюймовых шпильках. Финикиец едва-едва устоял и не шлепнулся на одно колено.
– Я все уберу! – закричал я. – Ой, простите, я так виноват, я все тут уберу, и, о господи, поверьте, я никогда не пытался кого-то хоть в чем-то обмануть, я действительно честный, стоит мне пукнуть, как я сразу признаюсь в этом, даже когда мы в школьном автобусе едем, Богом клянусь, клянусь…
– Ага, братан, остынь, – произнес Мэт, поднимаясь со своей табуретки. Он был мускулист и высок, к тому же темноглаз и голова брита, ему и угрожать незачем было, чтоб выглядеть грозно. – Успокойся. Фиглик в порядке. Гарантирую, он не пытался вас надуть.
– А ты, твою мать, не суйся, – бросил ему Финикиец. – Или постарайся быть повнимательнее, когда выбираешь, на чью сторону встать. Детеныш выставил меня на десять баксов, облил меня своим пойлом, а потом я едва в эту лужу дерьма задницей не бахнулся…
– Не натягивай сапог, если не умеешь ходить в них, дружок, – посоветовал Мэт, не глядя на него. – Мог бы не сегодня-завтра и побольней получить.
Мэт протянул через прилавок большой рулон бумаги и, когда я брал его, подмигнул мне до того быстро и до того неуловимо, что я почти и не заметил. Меня только что не трясло от признательности – вот до чего я почувствовал облегчение, поняв, что Мэт за меня.
Я оторвал горсть бумажных полотенец и тут же, бухнувшись в лужу на колени, принялся оттирать Финикийцевы брюки. Вам вполне простительно, если вы подумали, будто я изъявляю готовность в виде извинения отсосать ему.
– Ай, простите, я всегда такой неуклюжий, всегда, я даже на роликах кататься не умею…
Он глянул в сторону (опять едва не поскользнулся), потом подался вперед и выхватил у меня ком бумажных полотенец.
– Ну, ты! Слышь, не смей притрагиваться! Ишь, на коленки бухнулся, будто напрактиковался в этом. Спасибо, держи-ка ручонки подальше от моих штанов. Ты меня достал.
Он бросил на меня взгляд, в котором читалось: я пересек черту между тем, за что можно по попке нашлепать, и тем, чтоб меня и близко рядом с ним больше не было. Он тер свои брюки с рубашкой, резко бормоча что-то про себя.
Рулон бумажных полотенец все еще был у меня, и я, протопав по жиже, схватил его аппарат, чтобы очистить его.
Только я до того перенервничал и расстроился и движения мои сделались до того судорожными, что когда я взял аппарат в руки, то нажал на большую красную кнопку спуска затвора. Объектив был направлен за прилавок, на лицо Мэта, когда «Полароид» выдал вспышку белого света и тоненько-тоненько механически завыл.
Фото не просто вышло. Аппарат выстрелил им из щели, метнув квадратик пластика через прилавок и дальше к стене. Мэт дернул головой назад, быстро мигая, наверное, ослепленный вспышкой.
Я и сам слегка ослеп. Какие-то чудны́е червяки цвета меди извивались перед глазами. Я тряхнул головой и тупо уставился на аппарат в своей правой руке. Марка была обозначена как «Солярид», я о такой фирме не слышал никогда, ее, насколько мне было известно, никогда и не существовало ни в этой стране, ни в какой другой.
– Положи на место, – произнес Финикиец каким-то совсем изменившимся голосом.
Мне казалось, что ужаснее всего тот звучал, когда он орал на меня, только теперь голос был другим, и гораздо страшнее. Он походил на звук барабана, вращающегося в револьвере, на щелканье отведенного назад курка.
– Я только хотел… – начал я, с трудом ворочая языком.
– Ты хочешь сделать себе больно. И тебе это вполне удается.
Финикиец протянул руку, и я вложил в нее «Солярид». Если бы я уронил аппарат (если бы он выскользнул из моей потной дрожащей руки), то, уверен, он бы меня убил. Ухватил бы меня за глотку и сдавил бы. Я и тогда был в том уверен, и сейчас тоже. Серые его глаза ощупывали меня с холодной, леденящей душу яростью, а рябое лицо было непроницаемо, словно резиновая маска.
Он вырвал у меня фотоаппарат – и видение ушло. Взгляд его обратился на молодого человека и пожилую женщину за прилавком.
– Карточку. Дайте мне карточку, – сказал он.
Мэт, похоже, еще не пришел в себя от фотовспышки. Он посмотрел на меня. Посмотрел на свою мать. Похоже, он напрочь потерял нить всего разговора.
Финикиец, не обращая на него внимания, сосредоточился на миссис Мацузака. Руку протянул:
– Это мое фото, и оно мне нужно. Мой аппарат, моя пленка, моя фотка.
Она поводила взглядом по полу вокруг себя, потом подняла его и опять пожала плечиками.
– Оно выскочило и упало по вашу сторону прилавка, – произнес Финикиец, выговаривая слова громко и медленно, так люди поступают, когда какой-нибудь иностранец их ужасно злит. Как будто, чем громче скажешь, тем легче тот поймет. – Мы все это видели. Поищите фото. Посмотрите у себя под ногами.
Мэт потер толстыми концами ладоней глаза, опустил их и зевнул.
– Что стряслось? – Как будто он только что вылез из-под одеяла и вышел из спальни посреди препирательств.
Его мать сказала ему что-то по-японски – быстро-быстро и огорченно. Он воззрился на нее в каком-то туманном оцепенении, потом поднял голову и глянул на Финикийца.
– Какие проблемы, братан?
– Снимок. Твоя фотография, которую снял этот жирдяй. Она мне нужна.
– Только и делов-то? Если я найду ее, ты что, хочешь, чтоб я на ней свой автограф для тебя оставил?
Финикиец слов попусту не тратил. Обогнув прилавок, он подошел к дверке высотой по пояс, которая позволила бы ему попасть в пространство за стойкой и кассой. Мама Мэта, вновь взявшаяся как-то обреченно шарить взглядом по полу, тут же вскинула голову и уперлась рукой в дверцу изнутри, не дав ему пройти в нее. Выражение лица у нее сделалось строго неодобрительным.
– Нет! Покупатели стоят по ту сторону! Нет и нет!
– Мне нужна эта гребаная фотография, – сказал Финикиец.
– Эй-ей, братан! – Если Мэт и пребывал в оцепенении, то он его стряхнул. Он встал между матерью и Финикийцем и вдруг показался очень большим. – Ты же слышал ее. Осади назад. Политика компании: никому из не работающих в ней сюда хода нет. Не нравится? Купи открытку и пошли жалобу в «Мобил». Там умирают в ожидании весточки от тебя.
– Может, поторопитесь? У меня ребенок в машине, – сказала стоявшая за мной женщина, прижимая к себе полную охапку кошачьих консервов.
Что? А вы думали, что в такое время в магазине «Мобил» нас всего четверо было? Пока я плескал своей «Полярной голубизной на кока-коле со льдом» в Финикийца, пока он ругался, злился и угрожал, люди входили, брали напитки с чипсами, брали большие сандвичи в упаковке и вставали за мной в очередь. К тому моменту очередь уже на полмагазина растянулась.
Мэт отошел к кассе.
– Следующий.
Мамаша с охапкой консервных банок осторожно обошла фантастически расцвеченную лужу ярко сияющей голубизны, и Мэт принялся пробивать ее покупки.
Финикиец опешил, не веря своим глазам. Крутое пренебрежение Мэта вызвало в нем такую же ярость, как и мое ополаскивание его штанов льдистой голубизной.
– Знаешь что? Дыбись оно конем. Провались эта лавка, провались этот жиртрест помойный, и провались ты, косоглазый. У меня хватит бензина выбраться из этой сральни, и этого уже более чем достаточно. Ни на единый грош больше необходимого не потратил бы в этом сортире.
– С вас доллар восемьдесят девять, – сказал Мэт женщине с кошачьей едой. – Никакой дополнительной платы за дневное увеселение.
Финикиец уже дошел до выхода, но задержался в дверях и, оглянувшись, уставился на меня:
– Тебя, детеныш, я не забуду. Смотри в обе стороны, когда дорогу переходить станешь, понял меня?
Меня до того сковал страх, что я и пискнуть ничего не мог в ответ. Финикиец ударом распахнул дверь. Чуть погодя его «кадик» сорвался с места от колонок и, немилосердно визжа шинами, умчался к автостраде.
Я использовал оставшиеся полотенца, чтобы подтереть пол. Почувствовал облегчение, опустившись на колени, потупив взгляд, чтоб можно было поплакать втихомолку. Послушайте, мне было тринадцать лет. Меня обходили покупатели, платили за купленное и уходили, старательно делая вид, что не слышат моих всхлипываний и сдавленных воздыханий.
Когда с лужей было покончено (пол был липким, но сухим), я понес громадный ком пропитанных влагой бумажных тряпок за прилавок. Миссис Мацузака стояла рядом с сыном, устремив взгляд куда-то вдаль и строго поджавши губы… но, завидя меня с грузом мокрых полотенец, она отрешилась от задумчивости и потянула из-под прилавка большущий мусорный ящик. И покатила его на колесиках в мою сторону – вот тогда-то я и увидел его: моментальный снимок, лежавший лицевой стороной к полу, в уголке, он скользнул под ящик, потому его и видно не было.
Миссис Мацузака тоже его увидела и вернулась за ним, пока я сваливал влажные бумажные полотенца в мусорный ящик. Она недоуменно уставилась на фото, словно глазам своим не верила. Взглянула на меня… потом протянула карточку, чтоб и я смог посмотреть.
На фото должен бы быть Мэт, крупный план. Объектив был направлен прямо ему в лицо.
Вместо этого на фотографии был я.
Только на снимке я был не таким, каким был минуты назад. А будто за недели до этого. На фото я сидел в пластиковом кресле у автомата с содовой, читал «Популярную механику» и прихлебывал из громадного пластикового стакана, полного шипучки. На снимке «Полароида» («Солярида»?) я был одет в белую футболку с Хьюи Льюисом[15] и джинсовые шорты до колен. Сегодня же на мне были шорты-хаки и гавайская рубаха с карманами. Фотограф должен был бы снимать, стоя за прилавком.
В этом не было никакого смысла, и я в полном изумлении разглядывал снимок, стараясь сообразить, откуда он взялся. Это никак не могло быть фото, которое я только что случайно снял, но я не понимал и того, как можно было меня щелкнуть несколько недель назад. Не было в моей памяти ничего, подтверждавшего, что Мэт или его мама фотографировали меня за чтением Мэтовых журналов. Я вообразить не мог, зачем им понадобилось бы такое, я ни разу не видел никого из них с фотоаппаратом «Полароид».
Сглотнув, я произнес:
– Можно я возьму это?
Миссис Мацузака еще разок смущенно глянула на фотографию, поджала губы и положила ее на прилавок. Двинула ее ко мне, потом отняла руку и потерла кончики пальцев друг о друга, словно избавляясь от чего-то неприятного, попавшего на кожу.
Я еще недолго разглядывал фото с болезненным стеснением в груди, с судорожным ощущением беспокойства, вызванного не одними только криками и угрозами Финикийца. Я сунул снимок в карман рубахи и двинул к кассе. Положил двадцатку на прилавок, с содроганием думая, что это его деньги и что он устроит, поняв, что я так и не вернул их? Лучше посмотреть в обе стороны, переходя улицу. Лучше, блин, смотреть в обе стороны, Фиг. Видите, я даже сам себя оскорблял.
– Простите за грязь, – сказал я. – Это за 32 унции содовой.
– Все равно, братан. Не собираюсь ничего брать с тебя за это. Делов-то: немного разлитой сахаристой водички. – Мэт оттолкнул банкноту обратно ко мне.
– Лады. Вот. Я тебе должен за то, что ты не дал ему меня в зад пнуть. Ты, Мэт, мне тем жизнь спас. Честно.
– Само собой, само собой, – пробормотал он, глядя на меня прищуренными глазами и озадаченно улыбаясь. Еще немного разглядывал меня, потом слегка головой тряхнул. – Слышь, спросить можно?
– Само собой, о чем, Мэт?
– Ты так говоришь, будто мы знаем друг друга. Раньше мы встречались?