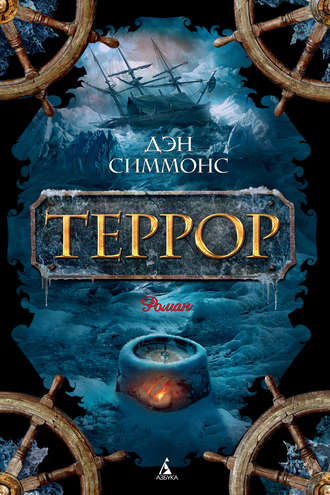
Дэн Симмонс
Террор
– А что… – начал сэр Джон, но осекся, когда Чарльз Бест рухнул без чувств на палубный настил.
14
Гудсир
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы
Июнь 1847 г.
Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира
4 июня 1847 г.
Когда мы со Стенли раздели раненого эскимоса донага, я вспомнил, что на груди он носит амулет из плоского гладкого камня размером меньше моего кулака, в форме белого медведя, – похоже, камень не подвергался обработке, но в природном своем состоянии имел очертания, в точности повторяющие линии длинной шеи, маленькой головы и сильных ног зверя, словно устремленного вперед. Я видел амулет, когда обследовал рану старика на льду, но тогда не обратил на него внимания.
Пуля, выпущенная из мушкета рядового Пилкингтона, вошла аборигену в грудь дюймом ниже амулета, пробила мышечную ткань между третьим и четвертым ребром, слегка изменила траекторию движения, зацепившись за верхнее из двух ребер, пробила левое легкое и застряла в позвоночнике, повредив многочисленные нервные волокна там.
Я никак не мог спасти раненого – еще в ходе первого обследования я понял, что любая попытка извлечь мушкетную пулю вызовет мгновенную смерть, а остановить внутреннее кровотечение из легкого невозможно, – но я сделал все от меня зависящее, приказав отнести эскимоса в ту часть лазарета, где мы с врачом Стенли устроили операционную. Вчера, после моего возвращения на корабль, мы со Стенли с полчаса ковырялись в ране самыми жестокими нашими инструментами и энергично резали, пока не установили местоположение пули в позвоночнике и не подтвердили наш прогноз о неминуемой смерти.
Но необычайно высокий, крепко сложенный седоволосый дикарь еще не согласился с нашим прогнозом. Он продолжал жить. Он продолжал с трудом дышать разорванным, кровоточащим легким, то и дело харкая кровью. Он продолжал пристально смотреть на нас своими неестественно светлыми – для эскимоса – глазами, следя за каждым нашим движением.
Прибыл доктор Макдональд с «Террора» и по предложению Стенли отвел для обследования второго эскимоса – девушку – в заднюю часть лазарета, отгороженную от нас одеялом, служащим занавеской. Полагаю, врач Стенли хотел не столько подвергнуть девушку осмотру, сколько убрать ее из лазарета на время, пока мы копаемся в ране ее отца или мужа… хотя как самого пациента, так и девушку, похоже, нисколько не пугали ни кровь, ни рана, при виде которой любая лондонская леди, да и немало начинающих врачей упали бы в обморок.
И к слову об обмороках. Мы со Стенли только-только закончили обследовать умирающего эскимоса, когда в лазарет вошел капитан сэр Джон Франклин с двумя матросами, волочившими под руки Чарльза Беста, который, сообщили они, лишился чувств в каюте сэра Джона. Мы велели матросам положить Беста на ближайшую койку, и мне хватило минутного поверхностного осмотра, чтобы перечислить причины наступившего обморока: крайнее изнеможение, в котором находились все участники разведывательного отряда лейтенанта Гора после восьми с лишним дней непрестанного напряжения сил; голод (последние двое суток на льду мы практически ничего не ели помимо сырой медвежатины); обезвоживание организма (мы не могли себе позволить тратить время, чтобы останавливаться и растапливать снег на спиртовках, и потому приняли неудачное решение жевать снег и лед, что ведет скорее к понижению, нежели к повышению содержания воды в организме); и причина, в высшей степени очевидная для меня, но, как ни странно, не принятая во внимание офицерами, допрашивавшими Беста, – бедняга стоял и докладывал капитанам, по-прежнему находясь в семи или восьми шерстяных фуфайках и свитерах, и лишь спустя какое-то время получил разрешение снять окровавленную шинель. После восьми дней на льду при средней температуре воздуха около ноля тепло на жилой палубе показалось мне чрезмерным, и я стащил с себя все свитера, кроме двух, едва только добрался до лазарета. Для Беста оно оказалось невыносимым.
Выслушав мои заверения в том, что Бест оправится – доза нюхательной соли уже почти привела беднягу в чувство, – сэр Джон с видимым отвращением взглянул на нашего пациента-эскимоса, теперь лежавшего ничком, поскольку мы со Стенли обследовали спину раненого в поисках пули, и осведомился:
– Он будет жить?
– Недолго, сэр Джон, – ответил Стивен Сэмюел Стенли.
Я опешил от таких слов, произнесенных в присутствии пациента, – при умирающих мы, доктора, обычно сообщаем друг другу наши прогнозы на латыни и бесстрастным голосом, – но сразу же сообразил, что эскимос едва ли понимает по-английски.
– Переверните его на спину, – приказал сэр Джон.
Мы осторожно сделали это, и, хотя наш седоволосый пациент, остававшийся в сознании все время, пока мы обследовали рану, наверняка по-прежнему испытывал мучительную, нестерпимую боль, он не издал ни звука. Его взгляд был прикован к лицу начальника экспедиции.
Сэр Джон склонился над ним и, с расстановкой произнося слова – словно он обращался к глухому ребенку или идиоту, – прокричал:
– Кто… ты… такой?
Эскимос пристально смотрел на сэра Джона.
– Как… твое… имя? – проорал сэр Джон. – Из какого… ты… племени?
Умирающий не ответил.
Сэр Джон потряс головой и поморщился от отвращения – хотя было ли оно вызвано зияющей раной на груди эскимоса или упрямым молчанием аборигена, я не знаю.
– Где другой абориген? – спросил сэр Джон у Стенли.
Старший врач, обеими руками зажимавший рану и накладывавший на нее окровавленные повязки в надежде хотя бы замедлить, если не остановить, пульсирующее истечение крови из легкого простым давлением на грудную клетку, кивнул в сторону занавески, отгораживавшей закуток в задней части лазарета:
– С ней доктор Макдональд, сэр Джон.
Сэр Джон бесцеремонно зашел за занавеску, я услышал оторопелый возглас, несколько бессвязных слов, а потом наш начальник экспедиции, пятясь, вышел обратно с таким ярко-красным лицом, что я испугался, как бы нашего шестидесятидвухлетнего командира не хватил удар.
Потом красное лица сэра Джона побелело от потрясения.
Я запоздало сообразил, что молодая женщина, вероятно, обнажена. Несколькими минутами ранее я заглянул за чуть отодвинутую занавеску и заметил, что, когда Макдональд знаком велел ей снять верхнюю одежду – парку из медвежьей шкуры, – девушка кивнула, скинула тяжелую шубу и под ней оказалась голой по пояс. Я занимался раненым на операционном столе, но машинально отметил про себя, что такой способ сохранять телесное тепло под широким меховым одеянием весьма разумен и гораздо эффективнее, чем многочисленные шерстяные поддевки, которые носили все участники разведывательного отряда бедного лейтенанта Гора. Нагое тело под звериной шкурой само согревается, когда холодно, и само охлаждается до нормы в случае необходимости – например, при напряжении сил, – поскольку пот быстро испаряется с кожи, поглощаясь волосками волчьей шкуры или медвежьего меха. Шерстяные свитера, которые носили мы, англичане, почти мгновенно промокали от пота насквозь, никогда толком не высыхали, быстро остывали, когда мы прекращали шагать или тянуть сани, и в значительной мере утрачивали свои теплоизоляционные качества – ко времени нашего возвращения на корабль мы, несомненно, тащили на своих плечах вес, почти вдвое превосходящий исходный.
– Я вернусь в более удобное время, – заикаясь пробормотал сэр Джон и прошел мимо нас, по-прежнему пятясь.
Увидел ли он в закутке за занавеской первозданную наготу молодой женщины или что другое, но выглядел капитан сэр Джон Франклин ошеломленным. Он покинул операционную, не промолвив более ни слова.
В следующий миг Макдональд попросил меня подойти. Девушка – то есть молодая женщина (я уже заметил, что особи женского пола в дикарских племенах достигают половой зрелости гораздо раньше, чем юные леди в цивилизованных обществах) – успела надеть свою широкую парку и штаны из тюленьей шкуры. Сам доктор Макдональд казался возбужденным, почти расстроенным, и, когда я осведомился, в чем дело, он знаком велел эскимоске открыть рот. Потом он поднял фонарь и выпуклое зеркальце, чтобы сфокусировать лучи света, и я увидел все своими глазами.
Язык у нее был ампутирован у корня. Оставшийся обрубок, как я увидел (и Макдональд согласился со мной), более или менее позволял девушке глотать и жевать почти всякую пищу, но, безусловно, внятное произнесение сложных звуков, если можно назвать эскимосский язык сложным в том или ином отношении, здесь абсолютно исключалось. Шрамы были старыми. Это случилось давно.
Признаюсь, я отшатнулся в ужасе. Кто мог сотворить такое с малым ребенком – и зачем? Однако, когда я употребил слово «ампутация», доктор Макдональд тихо поправил меня.
– Взгляните еще раз, доктор Гудсир, – прошептал он. – Это не аккуратная хирургическая ампутация, даже произведенная столь примитивным инструментом, как каменный нож. Язык у бедной девочки был откушен в раннем детстве – причем так близко к корню, что она никак не могла сделать это сама.
Я отступил на шаг от женщины.
– У нее есть еще какие-нибудь увечья? – спросил я, по старой привычке переходя на латынь.
Я читал о варварских обычаях, принятых на Черном континенте и у магометан, где женщины подвергаются жестокому обрезанию, пародирующему иудейский обряд.
– Нет, больше никаких, – ответил Макдональд.
По крайней мере теперь я понял причину внезапной бледности и явно шокового состояния сэра Джона, но, когда я спросил Макдональда, поделился ли он с нашим командиром данной информацией, врач ответил отрицательно. Сэр Джон просто вошел в закуток, увидел эскимосскую девушку без одежды и моментально удалился в некотором возбуждении. Затем Макдональд принялся сообщать мне о результатах своего беглого осмотра нашей пленницы, или гостьи, но нас прервал врач Стенли.
В первый момент я решил, что эскимос умер, но оказалось, дело в другом. Явился матрос, вызывающий меня явиться к сэру Джону и другим капитанам для доклада.
Я понял, что сэр Джон, командор Фицджеймс и капитан Крозье остались разочарованными моим докладом об известных мне обстоятельствах смерти лейтенанта Гора, но, хотя в любое другое время это расстроило бы меня, сегодня – вероятно, в силу моей смертельной усталости и психологических перемен, произошедших со мной за время похода отряда лейтенанта Гора, – разочарование моих начальников никак на меня не подействовало.
Сначала я снова доложил о состоянии умирающего эскимоса и сообщил о загадочном факте отсутствия языка у девушки. Трое капитанов обменялись между собой приглушенными репликами по данному поводу, но вопросы последовали от одного только капитана Крозье:
– Вы знаете, зачем такое могли сделать с ней, доктор Гудсир?
– Не имею понятия, сэр.
– Возможно ли, что это сделал какой-то зверь? – упорствовал он.
Я немного помолчал. Такая мысль не приходила мне в голову.
– Возможно, – наконец ответил я, хотя с трудом мог представить некое арктическое плотоядное животное, которое откусывает ребенку язык, однако оставляет его в живых. С другой стороны, хорошо известно, что эскимосы имеют обыкновение жить совместно с дикими псами. Я сам видел это в заливе Диско.
Больше никаких вопросов касательно эскимосов не последовало.
Затем они попросили со всеми подробностями рассказать о смерти лейтенанта Гора и описать существо, его убившее, и я сказал правду: что я пытался спасти жизнь эскимосу, раненному рядовым Пилкингтоном, и поднял глаза лишь в последнюю секунду, непосредственно в момент смерти Грэма Гора. Я объяснил, что, поскольку в воздухе колыхалась туманная пелена с разрывами, поскольку меня повергли в смятение крики, грохот мушкета, выстрел из пистолета лейтенанта, быстрое беспорядочное движение людей и пятен света, а также поскольку мое поле зрения ограничивали сани, возле которых я стоял на коленях, я ничего не разглядел толком: видел только огромную белую фигуру, обхватывающую злополучного лейтенанта, пламя из пистолета, вспышки других выстрелов – а потом все вокруг снова застило туманом.
– Но вы уверены, что это был белый медведь? – спросил командор Фицджеймс.
После минутного колебания я сказал:
– Если это был медведь, то необычайно крупный представитель вида ursus maritimus. У меня осталось впечатление медведеподобного плотоядного – громадное туловище, гигантские передние лапы, маленькая голова и обсидиановые глаза, – но на самом деле я видел все не так отчетливо, как можно предположить по моему описанию. Главным образом я помню, что существо возникло словно из пустоты – просто поднялось изо льда, обхватывая человека, – и что ростом оно вдвое превосходило лейтенанта Гора. От этого зрелища сердце уходило в пятки.
– Нисколько не сомневаюсь, – сухо, почти саркастично промолвил сэр Джон. – Но что еще это могло быть, мистер Гудсир, если не медведь?
Я не в первый раз заметил, что сэр Джон никогда не удостаивает меня моим законным званием доктора. В разговоре со мной он неизменно использовал обращение «мистер», какое мог бы употреблять по отношению к любому старшине или неопытному младшему офицеру. Мне понадобилось два года, чтобы понять: стареющий начальник экспедиции, которого я глубоко уважаю, не питает ни малой толики ответного уважения к простым корабельным фельдшерам.
– Я не знаю, сэр Джон, – сказал я.
Я хотел вернуться обратно к своему пациенту.
– Насколько я понимаю, вы проявляли интерес к белым медведям, мистер Гудсир, – продолжал сэр Джон. – Почему?
– Я выучился на анатома, сэр Джон. И до отплытия экспедиции я мечтал стать натуралистом.
– Больше не мечтаете? – спросил капитан Крозье со своим легким ирландским акцентом.
Я пожал плечами:
– Я понял, что сбор фактического материала на местах – не мое призвание, капитан.
– Однако вы проводили вскрытие белых медведей, которых мы убивали здесь и у острова Бичи, – упорствовал сэр Джон. – Изучали строение скелета и мускулатуры животных. Наблюдали за их поведением на льду, как и все мы.
– Да, сэр Джон.
– Как по-вашему, травмы лейтенанта Гора соответствуют телесным повреждениям, какие мог бы причинить подобный зверь?
Я колебался лишь долю секунды. Я обследовал тело несчастного лейтенанта Гора, прежде чем мы погрузили его в сани перед кошмарным походом обратно через паковый лед.
– Да, сэр Джон, – сказал я. – Белый полярный медведь, обитающий в данном регионе, насколько нам известно, является самым крупным хищником из всех на планете. Он может весить в полтора раза больше и в стойке на задних лапах быть на три фута выше, чем гризли – самый крупный и свирепый медведь Северной Америки. Сей хищный зверь обладает великой силой и вполне способен раздробить грудную клетку и сломать позвоночник человека, как в случае с бедным лейтенантом Гором. Вдобавок ко всему прочему, арктический белый медведь является единственным хищником, имеющим обыкновение охотиться на человека.
Командор Фицджеймс прочистил горло.
– Послушайте, доктор Гудсир, – негромко промолвил он, – однажды в Индии я видел довольно свирепого тигра, который – согласно показаниям деревенских жителей – сожрал двенадцать человек.
Я кивнул, в ту же секунду осознав, сколь страшная усталость владеет мной. Изнеможение действовало на меня как изрядная доза крепкого спиртного.
– Сэр… командор… джентльмены… в своих путешествиях по миру все вы повидали гораздо больше, чем я. Однако, насколько я понял из массы проштудированных мной материалов по данной теме, все прочие сухопутные плотоядные животные – волки, львы, тигры, другие виды медведей – убивают человеческих существ только в самом крайнем случае, когда доведены до бешенства, а некоторые из них – такие как ваш тигр, командор Фицджеймс, – становятся людоедами вынужденно, в силу болезни или увечья, не позволяющего им охотиться на обычную свою добычу, но один только арктический белый медведь – ursus maritimus – имеет обыкновение целенаправленно выслеживать и убивать людей.
Крозье кивал:
– Откуда вы узнали все это, доктор Гудсир? Из ваших книг?
– В известной мере – да, сэр. Но почти все время нашей стоянки в заливе Диско я посвятил разговорам с местными жителями на предмет поведения белых медведей, а также подробно расспрашивал капитана Мартина с «Энтерпрайза» и капитана Дэннерта с «Принца Уэльского», когда мы стояли на якоре рядом с ними в Баффиновом заливе. Два вышеназванных джентльмена ответили на все мои вопросы, касательные белых медведей, и свели меня с несколькими своими матросами, включая двух пожилых китобоев-американцев, каждый из которых провел во льдах дюжину с лишним лет. Они рассказали множество занимательных историй про белых медведей, которые охотились на местных эскимосов и даже утаскивали людей с кораблей, затертых льдами. Один старик – кажется, его звали Коннорс – сказал, что их судовая команда в двадцать восьмом году не потеряла никого, кроме двух коков, ставших жертвами медведя, – причем одного из них зверь утащил прямо с жилой палубы, где тот хлопотал у плиты, пока все остальные спали.
Здесь капитан Крозье улыбнулся:
– Вероятно, нам не стоит принимать на веру каждую историю, поведанную старым моряком, доктор Гудсир.
– Да, сэр. Разумеется, не стоит, сэр.
– Ладно, на этом закончим, мистер Гудсир, – сказал сэр Джон. – Мы вызовем вас снова, коли у нас возникнут еще какие-либо вопросы.
– Да, сэр, – сказал я и устало повернулся, чтобы направиться обратно в лазарет.
– О доктор Гудсир, – окликнул меня командор Фицджеймс, едва я успел переступить порог каюты сэра Джона. – У меня есть один вопрос, хотя мне чертовски стыдно, что я не знаю ответа на него. Почему белого медведя называют ursus maritimus? Надеюсь, не потому, что он так любит пожирать моряков?
– Нет, сэр, – сказал я. – Полагаю, такое имя даровано арктическому медведю, поскольку он является скорее морским млекопитающим, нежели сухопутным животным. Я читал сообщения об арктических белых медведях, замеченных в сотнях миль от побережья, в открытом море; а капитан Мартин с «Энтерпрайза» говорил мне, что белый медведь на суше или на льду нападает на жертву стремительно, развивая скорость до двадцати пяти миль в час и выше, что на море он является одним из сильнейших пловцов, способным проплыть шестьдесят-семьдесят миль без передышки. Капитан Дэннерт рассказывал, что однажды его корабль шел по ветру со скоростью восемь узлов, далеко от суши, и два белых медведя плыли рядом с кораблем около десяти морских миль, а потом просто перегнали его и поплыли к отдаленному ледяному полю со скоростью и легкостью белухи. Отсюда и название – ursus maritimus… млекопитающее, да, но обитающее в основном на море.
– Благодарю вас, мистер Гудсир, – сказал сэр Джон.
– Не стоит благодарности, сэр, – сказал я и удалился.
4 июня 1847 г. (продолжение)
Эскимос умер через несколько минут после полуночи. Однако перед смертью он заговорил.
Я тогда спал, прислонившись спиной к переборке лазарета, но Стенли разбудил меня.
Седоволосый старик, лежавший на операционном столе, подергивался всем телом, судорожно водил руками перед собой, словно пытаясь всплыть в воздух. Кровотечение из пробитого легкого усилилось, и кровь текла изо рта по подбородку и на перевязанную грудь.
Когда я прибавил света в фонаре, эскимосская девушка вышла из угла, где она спала, и мы трое склонились над умирающим.
Старый эскимос согнул крючком палец и ткнул себя в грудь, рядом с пулевым отверстием. После каждого судорожного вдоха он отхаркивал ярко-красной артериальной кровью, но с трудом прохрипел какие-то слова. Я взял кусок мела и записал их на дощечке, которой мы со Стенли пользуемся для общения, когда пациенты спят.
«Ангкут тукурук! Куарубвитчук… ангаткут туркук… панига… туунбак! Таник… налуабмиу тукутауксирук… умиакпак тукутайясирук… нанук тукуткаа! Панига… тунбак нанук… ангаткут кукурук!»
Затем кровотечение усилилось до такой степени, что он больше не мог говорить. Кровь забила у него изо рта фонтаном, он стал захлебываться – хотя мы со Стенли приподняли и посадили его, пытаясь поспособствовать прочищению дыхательных путей, – и под конец вбирал в легкие одну только кровь. Через несколько секунд ужасных мучений грудь у него перестала вздыматься, он повалился назад к нам на руки, и глаза его остекленели. Мы со Стенли опустили старика на стол.
– Осторожнее! – выкрикнул Стенли.
В первый момент я не понял предостережения коллеги – старик был мертв и недвижен, я не находил ни пульса, ни дыхания, склонившись над ним, – но потом обернулся и увидел эскимоску.
Она схватила один из окровавленных скальпелей с нашего стола для инструментов и приближалась к нам, подняв оружие. Я сразу понял, что она не обращает на меня внимания, – ее пристальный взгляд был прикован к мертвому лицу и груди мужчины, вероятно приходившегося ей отцом или братом. За те несколько секунд перед умственным взором у меня, ничего не знающего об обычаях ее языческого племени, пронеслись тысячи самых диких образов: девушка вырезает сердце старика и, возможно, съедает оное во исполнение некоего ужасного ритуала; или извлекает глазные яблоки из глазниц мертвеца; или просто отсекает один из пальцев; или, возможно, добавляет новые шрамы к старым, сплошь покрывавшим тело мужчины подобием распространенных у моряков татуировок.
Она не сделала ничего подобного. Прежде чем Стенли успел схватить ее за руку и пока я, не придумав ничего лучшего, наклонялся над столом в попытке загородить мертвеца своим телом, эскимосская девушка с ловкостью хирурга взмахнула скальпелем (очевидно, она всю жизнь пользовалась острыми как бритва ножами) и перерезала сыромятный ремешок, на котором висел амулет старика.
Подхватив плоский белый, испачканный кровью камень в форме медведя, она спрятала его к себе под парку и положила скальпель обратно на место.
Мы со Стенли ошеломленно переглянулись. Затем старший судовой врач «Эребуса» разбудил молодого матроса, состоявшего подручным при лазарете, и отправил его доложить вахтенному офицеру, а стало быть, и капитану, что старый эскимос умер.
4 июня (продолжение)
Мы похоронили эскимоса около половины второго пополуночи – когда пробили три склянки, – затолкав завернутое в парусину тело в узкую пожарную прорубь всего в двадцати ярдах от корабля. Эта пожарная прорубь, дававшая доступ к воде в пятнадцати футах под поверхностью льда, являлась единственной, которую удавалось предохранять от замерзания этим холодным летом, – больше всего на свете моряки боятся пожара, – и сэр Джон распорядился отправить тело туда. Пока мы со Стенли с помощью багров проталкивали тело вниз по узкому воронкообразному ледяному тоннелю, мы слышали стук ледорубов и редкие проклятия, раздававшиеся в нескольких сотнях ярдов к востоку от нас, где команда из двадцати матросов трудилась всю ночь, вырубая более пристойное отверстие во льду для погребения лейтенанта Гора, которое должно состояться завтра – вернее, уже сегодня.
Среди ночи здесь было достаточно светло, чтобы прочитать стих из Библии (если бы кто-нибудь принес Библию, чтобы прочитать из нее стих, чего никто не сделал), и тусклый свет облегчал задачу нам – двум врачам и двум матросам, отряженным пособить нам, – пока мы проталкивали, пропихивали и под конец заколачивали тело эскимоса все глубже и глубже в голубой лед, под которым текла черная вода.
Эскимоска безмолвно наблюдала за происходящим, с по-прежнему бесстрастным выражением лица. Дул северо-западный ветер, и ее черные волосы развевались над испачканным капюшоном парки и метались по лицу, точно взъерошенные перья ворона.
На похоронах присутствовали одни мы – судовой врач Стенли, два запыхавшихся, тихо чертыхающихся матроса, аборигенка и я, – пока из-за пелены снегопада не выступили капитан Крозье и высокий долговязый лейтенант, которые последнюю минуту-две наблюдали за нашими усилиями. Наконец тело эскимоса с нашей помощью преодолело последние пять футов ледяного тоннеля и исчезло в черном потоке в пятнадцати футах под поверхностью льда.
– Сэр Джон запретил пускать женщину на борт «Эребуса» на ночь, – негромко сказал капитан Крозье. – Мы пришли, чтобы забрать ее на «Террор». – Затем Крозье обратился к молодому лейтенанту, которого, теперь припоминаю, звали Ирвинг: – Джон, она переходит на ваше попечение. Найдите для нее спальное место подальше от мужчин – возможно, в форпике за лазаретом, среди ящиков, – и позаботьтесь о ее безопасности.
– Слушаюсь, сэр.
– Прошу прощения, капитан, – сказал я, – но почему бы не отпустить женщину к соплеменникам?
Крозье улыбнулся:
– В обычных обстоятельствах я бы согласился с таким образом действий, доктор. Но здесь в радиусе ста пятидесяти миль нет эскимосских поселений, ни одной самой крохотной деревушки. Эскимосы – кочевой народ, особенно так называемые северные горцы, – но что привело старика и молодую девушку так далеко на север летом, в паковые льды, где нет ни китов, ни моржей, ни тюленей, ни карибу, вообще никаких животных помимо белых медведей, вселяющих страх?
У меня не было ответа, но слова капитана едва ли имели отношение к моему вопросу.
– Вполне возможно, настанет такое время, – продолжал Крозье, – когда наша жизнь будет зависеть от того, удастся ли нам подружиться с местными эскимосами. Стоит ли нам отпускать женщину, не подружившись с ней?
– Мы убили ее мужа или отца, – заметил судовой врач Стенли, бросая взгляд на немую молодую женщину, которая по-прежнему смотрела в пустую теперь пожарную прорубь. – Наша леди Безмолвная едва ли питает к нам самые теплые чувства.
– Вот именно, – сказал капитан Крозье. – И нам совершенно не нужно, чтобы вдобавок ко всем прочим нашим проблемам эта девушка вернулась к нашим кораблям с отрядом разъяренных эскимосов, исполненных решимости перебить нас во сне. Нет, я думаю, капитан сэр Джон прав… она должна оставаться с нами, пока мы не решим, что делать… не только с ней, но и с самими собой. – Крозье улыбнулся Стенли. За два года экспедиции, сколько я помню, я еще ни разу не видел, чтобы капитан Крозье улыбался. – Леди Безмолвная. Недурно, Стенли. Весьма недурно. Пойдемте, Джон. Пойдемте, миледи.
Они двинулись сквозь метель на запад, к первой торосной гряде. Я поднялся по откосу обратно на «Эребус», вернулся в свою крохотную каюту, теперь казавшуюся мне истинным раем, и заснул крепким сном – впервые с того времени, когда лейтенант Гор повел нас на юго-юго-восток десять с лишним дней назад.







