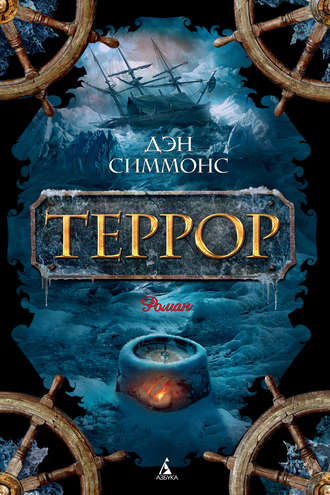
Дэн Симмонс
Террор
10
Гудсир
69°37′ северной широты, 98°41′ западной долготы
Кинг-Уильям, 24 мая – 3 июня 1847 г.
Одной из причин, почему доктор Гарри Д. С. Гудсир рвался присоединиться к разведывательному отряду, являлось желание доказать, что он так же силен и вынослив, как почти все остальные товарищи по команде. Он очень скоро понял, что это не так.
В первый день он настоял (невзирая на сдержанные возражения лейтенанта Гора и мистера Дево) на том, чтобы сменить одного из пяти матросов, поставленных тащить сани, позволив тому передохнуть и идти рядом.
У Гудсира практически ничего не получалось. Сконструированная парусным мастером и интендантом кожаная упряжь, крепившаяся к тяговым тросам хитрым узлом, который матросы завязывали и развязывали в считаные секунды, но с которым Гудсир не мог справиться, хоть убей, оказалась слишком широкой для его узких плеч и впалой груди. Сколь бы туго он ни затягивал переднюю подпругу упряжи, она все равно соскальзывала с него. А он в свою очередь поскальзывался на льду и постоянно падал, заставляя остальных четырех мужчин сбиваться с ритма «рывок-пауза-вдох-рывок». Доктор Гудсир никогда прежде не носил таких башмаков-ледоступов и из-за набитых в подошвы гвоздей чуть не на каждом шагу цеплялся ногой за ногу.
Он плохо видел сквозь тяжелые проволочные сетчатые очки, но, когда поднял их на лоб, в считаные минуты чуть не ослеп от яркого блеска арктического солнца. Он надел слишком много фуфаек на рассвете, и теперь несколько нижних настолько пропитались потом, что он дрожал, даже будучи распаренным от чрезмерного напряжения сил. Упряжь давила на нервные сплетения и пережимала артерии, препятствуя циркуляции крови в худых руках и холодных кистях. Он то и дело ронял рукавицы. Его тяжелое прерывистое дыхание вскоре стало таким громким, что он застыдился.
Через час таких нелепых потуг – когда он постоянно падал, а Бобби Терьер, Томми Хартнелл, Джон Морфин и рядовой Билл Пилкингтон (пятый матрос Чарльз Бест теперь шел рядом с санями) останавливались, чтобы стряхнуть снег с его анорака, переглядываясь, но не говоря ни слова, – он принял предложение Беста сменить его и во время одного из коротких привалов выскользнул из упряжи и предоставил настоящим мужчинам тащить тяжелые, нагруженные с верхом сани с деревянными полозьями, так и норовившими примерзнуть ко льду.
Гудсир валился с ног от усталости. Было еще утро первого дня похода, а он уже настолько уморился после часа мучений в санной упряжи, что с радостью расстелил бы свой спальный мешок на одеяле из волчьих шкур и проспал бы в нем до следующего дня.
А ведь они тогда еще не достигли первой настоящей торосной гряды.
Торосные гряды к юго-востоку от корабля были самыми низкими из всех доступных взору на протяжении первых двух миль или около того, словно сам «Террор» каким-то образом препятствовал образованию гряд со своей подветренной стороны, вынуждая оные отступать дальше. Но ближе к вечеру первого дня на пути у них встали настоящие торосные гряды. Они были выше тех, что вырастали между двумя кораблями во время зимовки, словно чудовищное давление ледяных плит друг на друга увеличивалось по мере приближения к Кинг-Уильяму.
В случае с первыми тремя грядами Гор каждый раз вел отряд на юго-запад в поисках низких седловин, наиболее удобных и доступных для перевала, таким образом прибавляя к походу мили и часы пути, но зато избавляя людей от тяжелейшей необходимости разгружать сани, однако обходного пути вокруг четвертой гряды не оказалось.
Каждая задержка, длившаяся свыше нескольких минут, приводила к тому, что одному из мужчин – чаще всего молодому Хартнеллу – приходилось доставать одну из многочисленных бутылок жидкого топлива из тщательно закрепленной на санях груды снаряжения, разжигать спиртовку и растапливать снег в котелке – не для того, чтобы напиться, ибо жажду они утоляли из фляжек, которые держали под шинелями, чтобы вода не замерзала, но для того, чтобы полить кипятком по всей длине деревянные полозья, утопленные в снегу и намертво в него вмерзшие.
И сани двигались по льду совсем не так, как санки и салазки, знакомые Гудсиру по поре довольно благополучного детства. Во время первых своих вылазок на паковый лед, без малого два года назад, он обнаружил, что бегать и скользить по нему, как он делал дома на замерзшей реке или озере, невозможно – даже в обычных башмаках. Какое-то качество морского льда – почти наверняка высокое содержание соли – увеличивало силу трения, сводя скольжение практически на нет. Легкое разочарование для человека, желающего прокатиться по льду, как в детстве, но колоссальное напряжение сил для команды мужчин, пытающихся тащить, толкать и тянуть по такому льду сотни фунтов снаряжения, нагроможденного на сани, сами по себе весящие не одну сотню фунтов.
Это было все равно что волочить громоздкий тысячефунтовый груз досок и барахла по неровной каменистой земле. А торосные гряды ничем не отличались от высоких – высотой с четырехэтажное здание – нагромождений каменных глыб и щебня, несмотря на сравнительную легкость перехода через них.
Эта солидная гряда – первая из многих, преграждающих путь на юго-восток, насколько они видели, – имела в высоту футов шестьдесят, наверное.
Они отвязали тщательно закрепленные сверху короба́ с продовольствием, ящики с бутылками горючего, спальные мешки и тяжелую палатку, а под конец выгрузили тюки и ящики весом от пятидесяти до ста фунтов, которые предстояло затащить по крутому склону на зубчатый гребень, прежде чем хотя бы попытаться тянуть наверх сани.
Гудсир быстро осознал, что, если бы торосные гряды обладали спокойным характером – то есть просто мирно вырастали из сравнительно гладкой поверхности замерзшего моря, – переход через них не требовал бы таких нечеловеческих усилий, какие приходилось прикладывать. Но на подступах к каждой гряде, на расстоянии пятидесяти – ста ярдов от нее, поверхность замерзшего моря превращалась в поистине безумный лабиринт спрессованных снежных заструг, рухнувших сераков и гигантских ледяных глыб – миниатюрных айсбергов, – и, прежде чем начать непосредственно восхождение, необходимо было пробраться через этот лабиринт.
Само восхождение всегда происходило не по прямой, но по извилистой траектории, ибо приходилось искать опоры для ног на предательски скользком льду или выступы, чтобы цепляться руками, на шатких ледяных валунах, которые могли обвалиться в любой момент. В процессе восхождения восемь мужчин выстраивались на склоне по неровной диагонали, передавая тяжелые тюки и короба друг другу, вырубали кирками ступени в ледяных глыбах и старались не сорваться вниз или не оказаться на пути падающего сверху предмета. Ящики выскальзывали из обледенелых рукавиц и с грохотом разбивались внизу, что всякий раз исторгало из уст пятерых матросов короткий, но впечатляющий взрыв проклятий, который Гор или Дево пресекали строгим окриком. Все приходилось по десять раз распаковывать и перепаковывать.
Наконец, и сами тяжелые сани, с по-прежнему закрепленной на них доброй половиной груза, приходилось тащить, пихать, волочить вверх по склону, выталкивая и вытягивая из расселин между валунами, накреняя набок, подпирая снизу, и снова тянуть, тянуть изо всех сил к неровному гребню гряды. Даже на вершине люди не могли передохнуть немного, ибо уже через минуту покоя насквозь пропитанные потом рубахи и свитера начинали заледеневать.
Привязав тросы к стойкам и поперечинам задней стенки саней, несколько мужчин становились впереди, чтобы подпирать сани по ходу движения вниз (обычно эта обязанность ложилась на плечи Морфина, Терьера и рослого морского пехотинца Пилкингтона), в то время как остальные, крепко упираясь в лед усеянными гвоздями подошвами, спускали их на тросах под синкопированный хор натужных хрипов, предостерегающих криков и очередных проклятий.
Потом они снова аккуратно укладывали груз в сани, тщательно проверяли, надежно ли он закреплен, растапливали снег в котелке, чтобы полить кипятком вмерзшие в снег полозья, и продолжали путь, пробираясь через запутанный лабиринт по другую сторону торосной гряды.
Спустя полчаса они приближались к следующей гряде.
Первая ночь во льдах до боли ясно запечатлелась в памяти Гарри Д. С. Гудсира.
Врач никогда в жизни не ночевал на открытом воздухе, но он знал, что Грэм Гор говорил правду, когда со смехом сказал, что на льду на все уходит в пять раз больше времени: на то, чтобы распаковать вещи; разжечь спиртовые фонари и печки; вкрутить в лед металлические стержни с резьбой, служащие палаточными колышками, и установить коричневую голландскую палатку; раскатать многочисленные одеяла и спальные мешки; а особенно на то, чтобы подогреть консервированные суп и свинину.
И все это время человеку приходится двигаться – постоянно шевелить руками и ногами, прихлопывать и притопывать, – иначе он закоченеет.
Нормальным арктическим летом, напомнил Гудсиру мистер Дево, приведя в пример прошлое лето, когда они двигались через рыхлые льды на юг от острова Бичи, температура воздуха на этой широте солнечным и безветренным июльским днем может подниматься до тридцати градусов по Фаренгейту[3]. Но только не нынешним летом. Лейтенант Гор измерил температуру воздуха в десять часов вечера, когда они остановились на привал и солнце еще стояло над южным горизонтом в светлом небе, и она оказалась минус два градуса[4] и быстро опускалась. В середине дня, когда они останавливались выпить чаю с галетами, термометр показывал плюс шесть[5].
Голландская палатка была маленькой. В снежную бурю она спасла бы им жизнь, но первая ночь во льдах была ясной и почти безветренной, поэтому Дево и пятеро матросов решили спать снаружи на волчьих шкурах и просмоленной парусине, укрывшись в одних лишь спальных мешках, сшитых из плотных шерстяных одеял, – они переберутся в тесную палатку, коли разыграется ненастье, – и после минутного колебания Гудсир решил тоже улечься снаружи со всеми, а не внутри с лейтенантом Гором, сколь бы толковым и учтивым малым он ни был.
Солнечный свет страшно раздражал. К полуночи он немного потускнел, но небо по-прежнему оставалось светлым, как в восемь часов вечера в Лондоне, и Гудсир не мог заснуть, хоть убей. Он чувствовал смертельную усталость, какой не знал никогда в жизни, и никак не мог заснуть. Боль в натруженных за день мышцах тоже мешала уснуть, понял он. Он жалел, что не взял с собой настойку опия. Маленький глоток этого снадобья принес бы ему облегчение и позволил бы забыться сном. В отличие от иных врачей, имеющих официальное разрешение прописывать наркотические препараты, Гудсир не был наркоманом – он принимал различные опиаты только с целью заснуть или сосредоточиться, когда необходимо. Не чаще двух раз в неделю.
И было холодно. Поужинав разогретыми супом и говядиной из консервных банок и побродив по ледяным джунглям в поисках уединенного местечка, чтобы облегчиться, – тоже новый для него опыт походной жизни и отправление, осознал он, которое надлежит совершать быстро, коли не хочешь отморозить очень важные органы, – Гудсир устроился на большом, размером шесть на пять футов, одеяле из волчьих шкур, раскатал свой личный спальный мешок и забрался в него поглубже.
Но недостаточно глубоко, чтобы согреться. Дево объяснил ему, что он должен снять башмаки и положить с собой в мешок, чтобы кожа не задубела на морозе, – в какой-то момент Гудсир напоролся ступней на гвозди, торчащие из подошвы одного из башмаков, – но все мужчины легли спать в верхней одежде. Шерстяные свитеры – все до единого, не в первый раз осознал Гудсир, – были насквозь мокрыми от пота после трудного длинного дня. Бесконечного дня.
Около полуночи небо ненадолго померкло настолько, что стали видны несколько звезд – планет, теперь известных Гудсиру из лекции, прочитанной ему лично в импровизированной обсерватории на вершине айсберга два года назад. Но темнее так и не стало.
Как не стало теплее. Сейчас, без движения и физических нагрузок, худое тело Гудсира было беззащитно против холода, который проникал в спальный мешок через слишком большое отверстие и поднимался от льда, проползая сквозь уложенные мехом вверх волчьи шкуры и толстые шерстяные одеяла, словно некая хищная тварь с ледяными щупальцами. Гудсир начал дрожать. Зубы у него стучали.
Вокруг него четверо спящих мужчин (двое несли дозор) храпели так громко, что врач задался вопросом, не слышат ли люди на обоих кораблях, находящихся в нескольких милях к северо-западу отсюда, за бесчисленными торосными грядами – господи, нам ведь придется снова переходить через них на обратном пути! – этот оглушительный храп, подобный скрежету и визгу пил.
Гудсира била крупная дрожь. Так он не дотянет до рассвета, не сомневался он. Они попытаются разбудить его утром и обнаружат в спальном мешке лишь холодный скрюченный труп.
Он заполз возможно глубже в спальный мешок и плотно стянул обледенелые края отверстия над головой, предпочитая вдыхать собственный кислый запах пота, чем снова высунуть нос на студеный воздух.
Помимо коварного света и еще более коварного всепроникающего холода – холода смерти, осознал Гудсир, холода могилы и черных скал над надгробиями на острове Бичи, – не давал уснуть еще и шум. Врач полагал, что за две темных полярных зимы привык к скрипу деревянной обшивки корабля, резкому треску лопающихся от переохлаждения металлических деталей и неумолчному стону, визгу и гулу льда, сжимающего корабль в своих тисках, но здесь, где его тело отделяли от льда лишь несколько слоев шерстяной ткани и волчья шкура, треск и движение льда под ним наводили ужас. Все равно что пытаться заснуть на брюхе живого зверя. Колебание льда, пусть в значительной степени воображаемое, казалось все же достаточно реальным, чтобы у Гудсира, поплотнее свернувшегося калачиком, закружилась голова.
Около двух часов ночи – он посмотрел на хронометр при слабом свете, сочившемся в стянутое отверстие спального мешка, – Гарри Д. С. Гудсир наконец начал впадать в полубессознательное состояние, отдаленно напоминающее сон, когда два оглушительных выстрела вернули его к действительности, напугав до полусмерти.
Судорожно извиваясь в своем заледенелом спальном мешке, точно новорожденный младенец, пытающийся выбраться из утробы, Гудсир умудрился высунуть голову наружу. Студеный ночной воздух – поднялся легкий ветер – обжег лицо достаточно сильно, чтобы у него зашлось сердце. Небо уже стало светлее, озаренное солнцем.
– Что? – выкрикнул он. – Что случилось?
Помощник капитана Дево и три матроса стояли на своих спальных мешках, сжимая в руках в перчатках длинные ножи, – видимо, они спали с ними. Лейтенант Гор выскочил из палатки, полностью одетый, с пистолетом в голой – голой! – руке.
– Доложить, в чем дело! – рявкнул Гор одному из двух часовых, Чарли Бесту.
– Это были медведи, лейтенант, – сказал Бест. – Два зверя. Громадные такие, паразиты. Они всю ночь шастали поблизости – мы видели их, прежде чем стали лагерем, примерно в полумиле отсюда, – но они подходили все ближе и ближе, двигаясь кругами, пока наконец нам с Джоном не пришлось пальнуть в них, чтобы отогнать прочь.
Джоном, знал Гудсир, был двадцатисемилетний Джон Морфин, второй часовой.
– Вы оба стреляли? – спросил Гор.
Лейтенант забрался на самую вершину высившейся поблизости груды льда и снега и осматривал окрестности, глядя в медную подзорную трубу. Гудсир не понимал, почему его голые руки еще не примерзли к металлу.
– Так точно, сэр, – сказал Морфин. Он перезаряжал свой дробовик, неловко возясь с патронами руками в шерстяных перчатках.
– Вы в них попали? – спросил Дево.
– Так точно, – ответил Бест.
– Только толку никакого, – сказал Морфин. – Простые дробовики, да с расстояния тридцать с лишним шагов. У этих чертовых медведей толстые шкуры, а кости черепа еще толще. Однако мы всадили им достаточно крепко, чтобы они убрались.
– Я их не вижу, – сказал лейтенант Гор со своего десятифутового ледяного холма над палаткой.
– Мы думаем, они выйдут вон из тех небольших проломов во льду, – сказал Бест. – Медведь, что покрупнее, бежал в ту сторону, когда Джон выстрелил. Мы думали, он убит, но прошли в том направлении достаточно далеко, чтобы убедиться, что никакой туши там нет. Он исчез.
Люди из разведывательного отряда уже прежде обратили внимание на такие отверстия во льду – имеющие форму неправильного круга, около четырех футов в поперечнике, слишком большие для крохотных отдушин, какие проделывают кольчатые нерпы, и явно слишком маленькие и слишком далеко отстоящие друг от друга для белых медведей, – всегда затянутые рыхлой ледяной коркой толщиной в несколько дюймов. Поначалу при виде их они исполнились надежды на близость разводий, но в конечном счете подобные проломы встречались так редко и находились на столь значительном расстоянии друг от друга, что представляли только опасность; матрос Терьер, шагавший перед санями вчера вечером, чуть не провалился в такую дыру – ступил в нее левой ногой, разом ушедшей в воду по середину бедра, – и им всем пришлось останавливаться и ждать, когда дрожащий от холода мужчина сменит башмаки, носки, шерстяные подштанники и штаны.
– В любом случае Терьеру и Пилкингтону пора заступать на дежурство, – сказал лейтенант Гор. – Бобби, возьми мушкет из палатки.
– Мне сподручнее с дробовиком, сэр, – сказал Терьер.
– А я предпочитаю мушкет, лейтенант, – сказал рослый морской пехотинец.
– Тогда ты возьми мушкет, Пилкингтон. Стрелять по этим зверям дробью – значит только разозлить их.
– Так точно, сэр.
Бест и Морфин, явно дрожавшие скорее от холода после двухчасового дежурства, нежели от нервного напряжения, сонно разулись и заползли в свои спальные мешки. Рядовой Пилкингтон и Бобби Терьер с трудом натянули на опухшие ноги башмаки, извлеченные из спальных мешков, и поковыляли к ближайшей торосной гряде, чтобы заступить на пост.
Трясясь еще сильнее прежнего, с онемевшими теперь – вдобавок к пальцам на руках и ногах – щеками и носом, Гудсир свернулся клубочком глубоко в спальном мешке и стал молить небо о сне.
Но так и не сомкнул глаз. Через два с небольшим часа второй помощник Дево отдал приказ вставать и сворачивать спальные мешки.
– У нас впереди трудный день, парни! – прокричал Дево жизнерадостным голосом.
Они все еще находились в двадцати двух с лишним милях от берега Кинг-Уильяма.
11
Крозье
70°05′ северной широты, 98°23′ западной долготы
9 ноября 1847 г.
– Вы продрогли до костей, Френсис, – говорит командор Фицджеймс. – Пойдемте в кают-компанию, глотнем бренди.
Крозье предпочел бы виски, но придется удовольствоваться бренди. Он идет впереди капитана «Эребуса» по длинному узкому коридору к помещению, прежде служившему личным кабинетом капитана сэра Джона Франклина, а ныне превращенному в аналог кают-компании «Террора» – библиотеку, место отдыха офицеров и, при необходимости, зал для совещаний. По мнению Крозье, то обстоятельство, что после смерти сэра Джона командор оставил за собой свою прежнюю крохотную каюту и переоборудовал просторное помещение в кормовой части под кают-компанию, временами использовавшуюся также под лазарет, делает Фицджеймсу честь.
Кромешную тьму в коридоре рассеивает лишь свет из кают-компании, и палуба накренена круче, чем у «Террора», и в другую сторону: на левый борт, а не на правый и к корме, а не к носу. Хотя корабли имеют практически одинаковую конструкцию, Крозье всегда замечает также и другие отличия. Запах на «Эребусе» сейчас не совсем такой, как на «Терроре», – помимо знакомого смрада осветительного масла, нечистых тел, грязной одежды, стряпни, угольной пыли, ведер с мочой и кислого дыхания людей, в холодном сыром воздухе чувствуется еще что-то. Почему-то на «Эребусе» острее ощущается тяжелый запах страха и безнадежности.
В кают-компании два офицера курят трубки, лейтенант Левеконт и лейтенант Фейрхольм, но оба встают, кивают двум капитанам и удаляются, закрыв за собой задвижную дверь.
Фицджеймс отпирает громоздкий застекленный шкафчик, достает бутылку бренди и наливает в один из хрустальных стаканов сэра Джона изрядную дозу для Крозье, а в другой – поменьше, для себя. Несмотря на обилие столового фарфора и хрусталя, взятого на борт покойным начальником экспедиции для себя и своих офицеров, графинов для бренди здесь нет. Франклин был убежденным трезвенником.
Крозье не смакует бренди. Он осушает стакан в три глотка и позволяет Фицджеймсу налить еще.
– Спасибо, что откликнулись так скоро, – говорит Фицджеймс. – Я ожидал письменного ответа, а никак не вашего прихода.
Крозье хмурится:
– Письменного ответа? Я уже неделю не получал от вас никаких сообщений, Джеймс.
Фицджеймс несколько мгновений непонимающе смотрит на него.
– Вы ничего не получали сегодня вечером? Около пяти часов назад я отправил к вам на корабль рядового Рида с запиской. Я решил, что он остался там на ночь.
Крозье медленно качает головой.
– О… черт, – говорит Фицджеймс.
Крозье вынимает из кармана шерстяной чулок и кладет на стол. Даже при ярком свете висящего на переборке фонаря на нем не видно никаких следов насилия.
– Я нашел это по дороге сюда. Ближе к вашему кораблю.
Фицджеймс берет чулок и печально рассматривает.
– Я покажу людям для опознания, – говорит он.
– Возможно, он принадлежал одному из моих людей, – тихо говорит Крозье.
Он вкратце рассказывает Фицджеймсу о нападении, произошедшем накануне вечером, о смертельном ранении рядового Хизера и об исчезновении Уильяма Стронга и молодого Тома Эванса.
– Трое за один день, – говорит Фицджеймс. Он наливает еще бренди в оба стакана.
– Да. Какого содержания сообщение вы мне посылали?
Фицджеймс объясняет, что весь день среди нагромождений ледяных валунов, сразу за границей света от фонарей, бродил какой-то крупный зверь. Люди то и дело стреляли, но вышедшие на лед отряды не нашли ни пятен крови, ни каких-либо других следов.
– Так что, Френсис, приношу свои извинения за стрельбу, открытую по вам этим идиотом Бобби Джонсом. Нервы у людей напряжены до предела.
– Но не настолько же, надеюсь, чтобы воображать, будто таинственный зверь во льдах научился обращаться к ним по-английски, – сардонически замечает Крозье. Он отпивает еще глоток бренди.
– Нет-нет. Разумеется, не настолько. Это был идиотизм чистой воды. Джонс будет лишен рома на две недели. Я еще раз прошу прощения.
Крозье вздыхает:
– А вот этого не надо. Спустите с малого шкуру, коли хотите, но не лишайте его рома. Атмосфера на вашем корабле и без того достаточно мрачная. Со мной была леди Безмолвная, в своей чертовой мохнатой парке. Вероятно, ее-то Джонс и заметил. Я получил бы поделом, если бы он отстрелил мне башку.
– Безмолвная была с вами? – Фицджеймс вопросительно вскидывает брови.
– Я не знаю, какого черта она делала на льду, – хрипло говорит Крозье. У него страшно саднит горло, за день застуженное на морозе и надорванное криками. – Я сам чуть не выстрелил в нее в четверти мили от вашего корабля, когда она подкралась ко мне сзади. Молодой Ирвинг сейчас, наверное, переворачивает все на «Терроре» вверх дном. Я допустил огромную ошибку, когда поручил парню приглядывать за этой эскимосской сукой.
– Люди считают, что она приносит несчастье.
Голос Фицджеймса звучит очень, очень тихо. В битком набитой жилой палубе звуки легко проникают через переборки.
– Почему бы им, собственно, не считать так? – Теперь Крозье чувствует действие бренди. Вчера вечером он не выпил ни капли. Алкоголь благотворно действует на желудок и утомленный мозг. – Женщина появляется в день, когда начинается этот кошмар, со своим отцом или братом-колдуном. Язык у нее вырван по самый корень. Почему бы людям не считать, что она и является причиной всех бед, черт возьми?
– Но вы более пяти месяцев держите ее на борту «Террора», – говорит Фицджеймс.
В голосе молодого капитана не слышится упрека, только любопытство.
Крозье пожимает плечами:
– Я не верю в ведьм. Да и во всяких ион тоже, коли на то пошло. Но я действительно верю, что, если мы выставим женщину на лед, зверь сожрет ее, как пожирает сейчас Эванса и Стронга. А возможно, и вашего рядового Рида. Кстати, не тот ли это Билли Рид, рыжий морской пехотинец, который очень любил поговорить о том писателе… Диккенсе?
– Он самый, Уильям Рид, – говорит Фицджеймс. – Он показывал отличные результаты, когда люди устраивали состязание по бегу на острове Диско два года назад. Я подумал, что один человек, да такой проворный… – Он осекается и закусывает губу. – Мне следовало подождать до утра.
– Зачем? – спрашивает Крозье. – Утром стоит такая же темень. Да и в полдень не многим светлее, собственно говоря. Отныне никакой разницы между днем и ночью нет – и не будет в ближайшие четыре месяца. И непохоже, чтобы чертов зверь охотился только по ночам… или только в темноте, коли на то пошло. Может, ваш Рид еще объявится. Наши посыльные и прежде не раз терялись во льдах и приходили через пять-шесть часов, дрожа от холода и ругаясь последними словами.
– Возможно. – В голосе Фицджеймса слышится сомнение. – Утром я вышлю поисковые отряды.
– Именно этого и ждет от нас зверь. – Голос Крозье звучит очень устало.
– Возможно, – снова говорит Фицджеймс, – но вы только что сказали, что ваши люди вчера вечером и весь день сегодня искали во льдах Стронга и Эванса.
– Если бы я не взял Эванса с собой, когда искал Стронга, мальчик был бы сейчас жив.
– Томас Эванс, – говорит Фицджеймс. – Я его помню. Такой рослый парень. И в общем-то, уже не мальчик, верно, Френсис? На вид ему… сколько? Двадцать два – двадцать три года?
– В мае Томми стукнуло двадцать, – говорит Крозье. – Первый свой день рожденья на борту он отметил на следующий день после нашего отплытия. У людей было отличное настроение, и они обрили малому голову по случаю его восемнадцатилетия. Похоже, он ничего не имел против. Все давние знакомые Томми говорят, что он всегда был рослым не по годам. Он служил на военном корабле «Линкс», а до этого на купце Ост-Индской компании.
– Как и вы, кажется.
Крозье невесело смеется:
– Как и я. Не знаю, пошло ли мне это на пользу.
Фицджеймс запирает бутылку бренди в шкафчик и возвращается к длинному столу.
– Скажите, Френсис, вы действительно наряжались чернокожим лакеем, а Хоппнер изображал старую знатную леди, когда вы зимовали во льдах в… дай бог памяти… двадцать четвертом году?
Крозье снова смеется, на сей раз повеселее:
– Да, было дело. Я служил гардемарином на «Хекле» под командованием Парри, когда они с Хоппнером, командовавшим «Фьюри», в двадцать четвертом отправились на север с целью отыскать этот самый чертов проход. Парри планировал провести корабли через пролив Ланкастер, а затем спуститься по проливу Принс-Риджент – мы тогда еще не знали, что Бутия является полуостровом, это стало известно только в тридцать третьем, после плавания Россов. Парри думал, что сможет пойти на юг, обогнув Бутию, и нестись на всех парусах, пока не достигнет побережья, которое Франклин исследовал в ходе сухопутной экспедиции шестью-семью годами ранее. Но Парри припозднился с отплытием – почему эти чертовы начальники экспедиций всегда задерживаются с отправлением? – и нам повезло добраться до пролива Ланкастер только десятого сентября, месяцем позже намеченного срока. Но к тринадцатому сентября на море встал лед, и пройти через пролив не представлялось возможным, поэтому Парри на нашей «Хекле» и лейтенанту Хоппнеру на «Фьюри» пришлось удирать на юг, поджав хвост. Шторм отнес нас обратно в Баффинов залив, и нам чертовски повезло найти стоянку в чудесной крохотной бухте неподалеку от пролива Принс-Риджент. Мы торчали там десять месяцев. Отморозили себе все, что только можно.
– Но вы – и в роли чернокожего мальчишки-лакея? – Фицджеймс чуть заметно улыбается.
Крозье кивает и отпивает маленький глоток бренди.
– И Парри, и Хоппнер, оба просто жить не могли без костюмированных представлений во время зимовок во льду. Именно Хоппнер организовал этот маскарад, который назвал Большим Венецианским карнавалом и назначил на первое ноября, когда моральный дух падает с исчезновением солнца на несколько месяцев. Парри явился закутанным в широченный плащ, который не сбрасывал, даже когда собрались все приглашенные, по большей части в маскарадных костюмах – у нас на обоих кораблях было по огромному сундуку с костюмами, – а когда он наконец все-таки разоблачился, мы увидели Парри в облике того старого моряка – помните, инвалида на деревянной ноге, что за гроши пиликал на скрипке близ Чатэма? Впрочем, нет, не помните, вы слишком молоды. Но Парри – я думаю, старый шельмец всегда больше хотел быть актером, чем капитаном корабля, – он все сделал правильно: принялся пиликать за скрипке, прыгая на деревяшке и выкрикивая: «Подайте грошик бедному Джо, отдавшему ногу за родину и короля!» Ну, люди чуть не полопались со смеха. Но Хоппнер, который, думаю, любил подобные игры с переодеваниями даже больше Парри, явился на бал в обличье знатной леди, нарядившись по последней парижской моде – платье с кринолином, оттопыренным на заднице, огромное декольте, все дела. А поскольку я в ту пору был жизнерадостен и весел сверх меры да вдобавок слишком глуп, чтобы думать головой, – иными словами, был сопляком двадцати с лишним лет, – я изображал чернокожего лакея, облачившись в настоящую ливрею, которую старый Генри Хопкинс Хоппнер купил в какой-то лондонской лавке и взял в плавание специально для меня.
– И люди смеялись? – спрашивает Фицджеймс.
– О, они снова так и покатились со смеху – Парри со своей деревяшкой напрочь лишился зрительского внимания, когда появился старый Генри, а за ним я, несущий шелковый шлейф. Почему бы им не посмеяться? Всем этим трубочистам, галантерейщицам, старьевщикам, носатым евреям, каменщикам, шотландским воинам, турецким танцовщицам и лондонским торговкам спичками? Эй! Это же молодой Крозье, еще даже не лейтенант, а гардемарин-переросток, который думает, что когда-нибудь станет адмиралом, забыв о том, что он всего-навсего очередной черномазый ирландец.
С минуту Фицджеймс молчит. Крозье слышит храп и попердывания, доносящиеся из скрипучих подвесных коек в темной носовой части корабля. Где-то на палубе над ними часовой топает ногами, чтобы согреться. Крозье жалеет, что закончил свою историю таким образом, – он ни с кем так не разговаривает, когда трезв, – но он хочет также, чтобы Фицджеймс снова достал из шкафчика бутылку бренди. Или виски.
– Когда «Фьюри» и «Хекла» вырвались из ледового плена? – спрашивает Фицджеймс.
– Двадцатого июля следующего года, – говорит Крозье. – Но все остальное вам, вероятно, известно.







