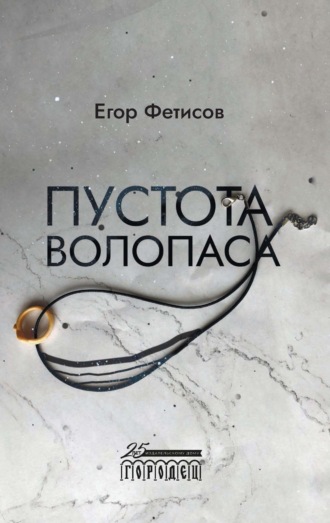
Егор Фетисов
Пустота Волопаса
13
Падающий цветок
Вернулся вдруг на ветку.
Оказалось: бабочка!
Это была простая история, простая и понятная, только Македонову не хотелось ее записывать в прозе, потому что падающим цветком была их любовь, и он верил, что этот цветок еще успеет превратиться в бабочку, прежде чем долетит до земли и смешается с облетевшими лепестками и листьями, ведь не всем уготовано превращение, иначе Моритакэ использовал бы множественное число. Падающие цветы. Но бабочек не так много. Цветков гораздо больше, чем бабочек, поэтому превращение доступно… нет, даровано – лишь немногим. А то, что тебе даровано, нельзя записать, это можно лишь прожить. Главное, почувствовать нижнюю точку, точку падения качелей, перед тем как они снова взлетят вверх. Точку превращения цветка в бабочку, то мгновение, когда время останавливается, потому что падение уже прекратилось, а взлет еще не начался. Это состояние пустоты, наверное, главное состояние во вселенной. Между краткосрочной жизнью и не менее краткосрочной смертью. Это не так легко записать словами, сделать из этого короткий текст, описать цветок, который, подобно стулу с балкона, летит вниз, потому что нужно сперва понять, откуда мы на него смотрим: снизу или сверху. Если снизу, то он летит к нам, и превращение его в бабочку отнимет его у нас в конечном счете, а если сверху, то все наоборот, мы обретем его снова, просто уже в другом обличье. Македонов закрыл глаза и понял, что он смотрит на цветок сверху, хотя образ листа был ему понятнее, лист, превращающийся в бабочку, и даже на дерево, и на весь город, и на залив он смотрит сверху, ведь он уже умирал один раз, хотя и не помнил этого: человек не помнит момента своей смерти и продолжает жить так же, как звезда продолжает гореть после того, как она давным-давно взорвалась, она продолжает жить вспышкой-отражением, и Македонов был, конечно, такой звездой – и смотрел на происходящее сверху, а не снизу, поэтому ему казалось, что все возвращается к нему, и, может быть, так оно и было на самом деле.
14
Слово «сальмонелла» заставило Македонова вспомнить далекий год, когда он, еще будучи школьником, проводил лето с отцом в экспедиции. Летние каникулы три месяца – никаких пионерлагерей не напасешься, поэтому многие ботаники брали детей с собой. Совсем маленьких, конечно, оставляли в городе с бабушками или отправляли куда-нибудь к родственникам, если было куда. А ребят постарше приучали к лесу, комарам, дыму костра и тушенке. Много лет прошло с того дня, но Антон до мелочей помнил тот солнечный июльский день, когда их с Митей отправили за черникой в сосновый бор километрах в пяти от экспедиционного лагеря.
При слове лагерь обычно приходят на ум всякие палатки и чуть ли не еловые лапы, набросанные на голую холодную землю, но на самом деле ботаники (а старший Македонов, Анатолий Давыдович, был ботаником и работал в одном из питерских НИИ, которое на тот момент еще не успело загнуться) сняли в деревне у старушки дом, и она на вырученные деньги с удовольствием уехала на два месяца в город навестить дочку. Так что, хотя официально это называлось выездом «в поле», условия были вполне сносные: плитка, умывальник, даже печь, которую они не топили, потому что и без того стояла жара и прогревать дом было излишней мерой, а готовить было некогда и нечего, шел девяносто пятый год, и вместо кофе заваривали цикорий, а в суп для витаминов добавляли корень девясила, похожего на желтые ромашки, хотя на самом деле его скорее можно было назвать астрой, разумеется, сам девясил, а не его корень, который кидали в суп, и в обязанности детей входило, в том числе, эти корни выкапывать, промывать водой и сушить на солнце.
Антон, которому в то лето исполнилось одиннадцать, ненавидел этот корешок за горький привкус, и без него в тарелке плавало достаточно много овощей, которые он не любил: вареный лук, морковка, сельдерей. Поэтому поход за черникой обрадовал обоих, Митя тоже рассчитывал полакомиться ягодами, а если повезет, то и захватить островок недавно пошедших лисичек. Жареные грибы взамен макарон с тушенкой – перспектива была радужная. Правда, уже третью неделю стояла жара, и грибы, если и попадались, были червивые от ножки до кончика шляпки, но лисички – гриб, не поддающийся червякам, да и росли они кучно, поэтому шанс набрать их какое-то количество, хотя бы для аромата, оставался.
Единственное, что приспускало настроение, как вечерний флаг, была жара, густой бульон которой изобиловал комарами и слепнями, отбиться от которых можно было только на открытом пространстве, у озера, в лугах, на шоссе. В лесу шансы становились мизерными, тем более в низинах, где черника не выгорела и не посохла, поэтому, несмотря на палящее солнце, Антон с Митей надели школьную форму, настолько плотную, что насекомые ее не прокусывали, и армейские пилотки, у которых опускались «уши», закрывая виски, щеки и даже шею с боков. Обливаясь потом, они взяли пластмассовые ведра и отправились на промысел. Воздух гудел и вибрировал, он превратился в густой и пряный настой на большом количестве цветущих растений и в первую очередь вереске. Запахи проникали в мозг, вызывая легкие галлюцинации, голова понемногу наливалась свинцовой тяжестью.
Перед выходом незатейливо позавтракали: выпили, посолив, по два сырых яйца, зажевав кисловатыми ржаными горбушками. Ягоды было много, набрали литров по восемь, кажется, Антон уже не помнил таких подробностей, помнил, что грибов не нашли, только червивые насквозь сыроежки и поганки выдержали в итоге эту многонедельную сушь, да и тем приходилось несладко. Лисички отсиживались где-то подо мхом, недоступные глазу, и мечты о жарехе пришлось отложить на потом.
Вдруг в отдалении что-то загрохотало, и Митя поднял голову от очередного куста, с которого он аккуратно собирал ягоды в кружку, а потом пересыпал в банку: так было психологически проще, достигался промежуточный результат, ведь можно было набрать целую кружку, потом две, три и так далее; Антон же думал о своем и механически бросал ягоды прямо в ведро, не задумываясь о том, сколько литров уже удалось набрать. «Может, поезд?» – неуверенно предположил Антон, хотя они оба знали, что железная дорога в тридцати километрах и шум поездов отсюда не слышен.
Это было громыхание надвигавшейся грозы. Долгожданный дождь, которого не было уже почти месяц. Антон поднял голову и посмотрел вверх: между качавшимися макушками сосен, глухо постукивавшими друг о друга, виднелось совершенно джинсового цвета небо, с легкими прожилками даже не облаков – облачной паутины, которую словно оторвало где-то под крышей сарая и теперь несло в неизвестном направлении по воле ветра. Ветра… Антон сначала не обратил на него внимания, но теперь понял, что это тот самый ветер, который биологи называли ветром «из-под грозы», его ни с чем нельзя было спутать, непогода шла с запада, все еще невидимая за деревьями, но уже предупреждавшая о своем приближении отдаленным гулом и грохотанием.
– Пора сматывать удочки, – сказал Митя. – Если нас тут накроет, вымокнем насквозь.
– Можно спрятаться в ельнике, – возразил Македонов.
– Ага, и сидеть там до завтрашнего утра? Ты же не знаешь, как долго будет лить. И ягоду помочит, батя говорит, мокрая она быстро гниет.
– Тогда завязываем собирать? – неуверенно переспросил Антон, снова пытаясь разглядеть признаки непогоды между покачивающимися стволами. Но здесь, над их головами, небо было безоблачным, мешая поверить в надвигающийся ливень.
– Да, валим отсюда. Мы и так набрали будь здоров, – сказал Митя озабоченным тоном, но со скрытым облегчением в голосе: ему уже надоело ползать на карачках, отделяя темные, почти черные ягоды от липнувших к ним листочков. – Не забывай, нам еще переть эти ведра на себе несколько километров. И жрать уже охота… Эти ягоды можно килограммами есть, все равно желудок пустой.
И он улыбнулся черно-синими от съеденных ягод зубами.
Они затянули ведра марлей и двинулись в обратный путь, тем более, что дело и так шло к вечеру, на пятикилометровый переход и сбор ягод незаметно ушел весь день. И вдруг, когда они, выйдя на проселочную грунтовку, оглянулись и наконец увидели за спиной темно-свинцовую, почти черную местами полосу с проблесками молний, Антон понял, что не может больше идти, что ему очень плохо и стремительно становится все хуже, как будто внутри развязались невидимые узелки, и кукла внезапно превратилась в тряпку, из которой ее сделали. Ноги стали ватными, ведро неподъемным. Антон уже не мог его нести. Он остановился, неловко поставил ведро на землю, едва не опрокинув его, и мутным взглядом смотрел в спину удалявшегося Мити. Даже окликнуть приятеля у Македонова не было сил. К счастью, через несколько десятков метров удалявшийся силуэт замер, развернулся и двинулся обратно к Антону, который уже не мог стоять и лежал рядом с ведром.
На вопрос Мити, в порядке ли он, Антон беспомощно помотал головой. Он не знал, что с ним. Это было похоже на укус ядовитой змеи – со скоростью змеиного яда овладевал его телом неизвестный недуг.
Митя тоже предположил, что Антона укусило что-то неприметное, конечно, не змея, но, может, насекомое, паучок, махонький родственник тарантула или скорпиона, хотя скорпион не вполне паук, но класс паукообразных, троюродный брат, можно сказать, Митя пытался шутить, но было видно, что он напуган бледностью Антона, который встал на четвереньки, кое-как дополз до обочины, и его вырвало в покрытые слоем пыли лопухи.
– Я не знаю, что это, – выдавил из себя Антон. – Но мне, кажется, худо.
И опять переломился пополам, исторгая из себя остатки переваренных ягод.
– Желудок болит, – простонал он.
– На-ка, умой лицо, – Митя достал из рюкзака фляжку с остатками воды, вылил в ладонь и умыл Македонова. – Полегче? – с надеждой спросил он. – Если в тебе была какая-то дрянь, ну, траванулся там чем-нибудь, то все должно было выйти. Придем в лагерь, выпьешь активированного угля и завтра будешь как огурчик. К вечеру, – подумав, добавил он. – Я в прошлом году молоком отравился, корова что-то сожрала на лугу, два дня блевал, думал, внутренности уже все вытошнило, но ничего, как видишь, жив. Идти сможешь?
– Попробую, – вяло ответил Антон, но после того, как они с черепашьей скоростью проковыляли пару сотню метров, Митя оглянулся на быстро догонявшее их ненастье и присвистнул.
Нужна была попутка, но ждать ее здесь было бессмысленно, машины ходили в основном по шоссе, до которого было километра два, не меньше. И Митя, спрятав ведра с ягодой в кустах, нес Македонова на руках, взяв в охапку, как огромный букет цветов, пыхтя и отдуваясь через каждые несколько шагов, и отпуская шуточки, что так в кино носят девчонок, и если их кто сейчас увидит, особенно из местных, то подумает неизвестно что, точнее говоря, очень даже известно, что подумает.
А находившийся в полубреду Антон почему-то успел вспомнить, что, когда впервые в жизни, еще во втором классе, он выругался этим словом, да еще при отце, не подозревая, что совершает что-то криминальное, тот молча встал с дивана, подошел к своему секретеру, достал лист бумаги и карандаш, подозвал Антона и велел написать только что произнесенное в адрес чем-то обидевшего его одноклассника слово.
Антон написал его через «и», и «о», и «з» на конце. Всего получилось семь букв, и он был доволен тем, как каллиграфически он их вывел. У него был лучший почерк в классе, еще с первого класса, когда на его тетрадке с прописями красовались пять больших желтых звездочек, не имевших отношения к еврейской национальности, да и количество лучей у них было иным, а бывших некоторой заменой медалям и дипломам, эдаким эрзацем настоящих наград и званий, и звезд этих у Антона было больше, чем у кого-либо. Он очень удивился, что букв в слове на самом деле восемь, и многие из них совсем не такие, особенно его ошеломило отсутствие «з» на конце. «Запомни, как пишется и никогда не употребляй слова, значения которых ты не знаешь. Или знаешь?» – спросил папа, прищурившись.
Антон покраснел и сказал, что это значит «дурак». Хотя теперь уже понимал, что не совсем дурак, и, видимо, даже совсем не дурак, а что-то другое, более темное и нехорошее. Папа объяснил, что так называются дяди, которые целуются друг с другом, как они с мамой. И спят в одной постели. И что глупо называть так своего одноклассника, потому что он не делает ни того, ни другого.
Антон согласился и сказал, что будет называть его козлом.
– Написать слово «козел»? – спросил он папу.
– Не надо, – сказал папа. – Верю, что с козлом ты справишься.
Помня о том разговоре, Антон никогда никого не называл словом из восьми букв, хотя мальчики в их классе частенько его произносили с отчетливым «з» на конце. И теперь в объятиях Мити он почему-то об этом вспомнил. Вспомнил – и в следующую секунду провалился в состояние, похожее на кошмарный сон, где он падал, тонул, и снова падал, и куда-то бежал, чтобы сдать тетрадку с домашним заданием, которая в последнюю секунду куда-то запропастилась, и очнулся уже на постели в их экспедиционном доме, куда привез его Митя на молоковозе, они еще, оказывается, существовали и даже выглядели точь-в-точь как в советских фильмах, и сейчас водитель молоковоза поехал на другой конец деревни к ветеринару, потому что врача у них не было. Раньше не было и ветеринара, пока к ним не приехала Таня из ближайшего городка. У нее был телефон. Без телефона невозможно было бы принимать вызовы. И она, предположив, что у Антона дизентерия, дозванивалась в скорую помощь, которая приехала через несколько часов и отвезла Антона в поселок городского типа, странно, что память не сохранила его название, где Македонова кормили домашним творогом и на всякий случай, пока не было результатов анализов, американскими таблетками от сальмонеллеза. Просто потому, что они там случайным образом были. Их привезли вместе с гуманитарной помощью, и никто ими не пользовался. Врач дала их на всякий случай, когда температура зашкаливала за сорок и сердце выскакивало между ребер, за пару дней она скормила ему двойную дозу и тихо, чтобы Македонов не услышал, спросила отца Антона, не хочет ли он на всякий случай позвать к сыну священника.
И это таки оказался сальмонеллез. И таблетки были хорошие. И организм молодой, выкарабкался. С тех пор Антон не ел чернику. Ведра, кажется, так и не забрали, потому что Митя не смог вспомнить, в каких кустах он их спрятал. Антон подумал, что с того лета ни разу больше его не видел, этого Митю; интересно, каким он стал, щуплый мальчик с веснушчатым широкоскулым лицом, тащивший его на руках под проливным дождем несколько километров и постоянно шутивший, чтобы отогнать страх. Антон подумал, что хорошо было бы написать ему сейчас письмо, но как его разыскать… Фамилию он не помнил, а по имени – даже фейсбук не всесилен. Отца спрашивать не хотелось, можно было бы узнать у него фамилию Митиного отца, но пришлось бы объяснять зачем, а что объяснять? Что у них поселился на балконе голубь, и он случайно вспомнил то лето девяносто пятого года, когда он сидел с медсестрами каждый вечер на диванчике перед стареньким телевизором и смотрел сериал «Богатые тоже плачут»? И чувствовал захлестывавшую его радость, потому что мог умереть, но не умер, болезнь отступила, рвота и понос оставили его в покое, и главное, что-то с ним произошло, он выходил на крыльцо больницы и смотрел на мир другими глазами: как проезжают мимо больницы машины, разноцветные и прекрасные, как, чем-то озабоченная, ползает у него по рукаву божья коровка, выпустив темные кончики крылышек, и как курит на нижней ступеньке крыльца врач, пожилая одинокая женщина…
15
У Вари, в отличие от Антона, было достаточно много друзей и знакомых, как парней, так и девушек. Превалировали авторы детских книг, редакторы и прочая питерская полубогема, предпочитавшая бутылку коньяка, пущенную по кругу под столом в пельменной, бокалу пива в ирландском пабе. Объяснялось это всегда денежными обстоятельствами, но Антону казалось, что дело не только и не столько в них. Просто эти люди видели в себе наследников поколения поэтов, работавших кочегарами и сторожами. Для них качественное пиво в нормальном заведении было таким же моветоном, как для Македонова устрицы и шампанское в ресторане. И все же Антон избегал подобных вечеринок, поскольку после российского коньяка его всю ночь потом мучила изжога, а зарубежный коньяк полубогема презирала из-за причин, только что перечисленных. Варя же участвовала в этих попойках охотно, объясняя, что у нее голод по общению с людьми, нормальными, творческими, видящими свое предназначение в просвещении детей. «Мы должны сделать их лучше», – говорила она, имея в виду детей, а не представителей полубогемы. И потом, желудок у Вари был из меди с цинковым покрытием, она могла есть и пить все что угодно, а на вопрос Македонова, заданный в скором времени после их знакомства, не мучает ли ее после плохого алкоголя изжога, она не смогла толком ответить, потому что не знала, что это такое. Пришлось Македонову словами описывать симптомы повышенной кислотности, оказалось, что это далеко не просто. Нет, ничего подобного Варя никогда не испытывала. Македонова кольнуло чувство зависти.
Что же касается социального и нравственного предназначения литературы, Антону казалось, что детей нельзя сделать лучше, чем они есть. Они же цветы жизни, а цветы просто надо регулярно поливать, некоторые даже не слишком обильно, они вырастут сами, кто во что горазд. Главное не мешать им расти, не пересаживать слишком часто из почвы в почву, окружить их пониманием и заботой. Вот в обратную возможность Македонов как раз верил: в то, что дети способны сделать нас лучше. «Когда у нас будут дети, я тоже стану лучше», – думал Македонов. Ему приятно было так думать, как приятно думать о любой хорошей перспективе, не требующей усилий непосредственно здесь и сегодня.
На днях к ним зашла одна из подруг Вари Лина. Вообще-то девушку звали Галина, то есть Галя, но называть ее так категорически воспрещалось, об этом Варя предупредила его когда-то, перед тем как знакомить их друг с другом.
– Почему? – наивно поинтересовался Македонов.
– Ты что, хочешь меня с ней раздружить? – раздраженно ответила Варя вопросом на вопрос, и Македонов решил не дискутировать на эту тему, раз Варе это неприятно.
Впрочем, после первой бутылки вина Македонов сам задал Лине этот вопрос, не обращая внимание на пристальный взгляд Вари, не обещавший ничего доброго. Зато Македонов выяснил причину преобразования имени. Галя звучало слишком вульгарно, а Лина по-европейски, в меру кокетливо и, главное, благозвучно. Естественно, Лина с момента первой встречи стала называть Антона Тони. «Тони, ты ничего не можешь создать существенного в литературе, потому что не ставишь перед собой высокой задачи. Ты не видишь людей, для которых ты пишешь. Ты должен закрыть глаза и видеть их лица, представлять себе свою целевую аудиторию. Вот возьми, например, Нину Грубину. Она, когда пишет свои тексты, не только знает, для кого и зачем она их пишет, но и представляет себе ту конкретную публику, перед которой она будет читать эти тексты вслух. Вот мастерство. А это блеяние про вечность, про тексты, которые пишутся на небесах или не горят, или еще что-то там, это же все инфантильность, в данном случае писательская, творческая незрелость, ты меня, конечно, извини, я говорю тебе об этом не для того, чтобы обидеть, а, наоборот, как-то помочь, тебе нужен волшебный пендаль, чтобы ты написал что-то серьезное, и тогда тебя непременно заметят. Опять же у Варьки есть какие-то контакты, зашлем куда нужно, да, Варь?»
Варя соглашалась и объясняла, что она уже бы давно, но пока что, к сожалению, речь шла об отдельных рассказах, неплохих, кстати, очень даже сильных местами, но их не набирается даже на полкнижки, да и нереально в наши дни стартовать с книгой рассказов. «Их никто не читает, разве что это кто-то из раскрученных, как праща над головой», – заключала она и укоризненно смотрела на Антона, который, как ей казалось, уже вырыл достаточно глубокую яму для своего таланта. Ему хотелось спросить Варю: это яма реально глубокая или талант настолько невелик, что достаточно и небольшого углубления в земле?
– Может, в журналы послать? – предложила Лина, зажав ярко накрашенными губами очищенную фисташку.
– А что журналы? – вздохнула Варя. – Ну, пошлешь ты в журнал.
– Напечатают. Все-таки кто-то прочтет.
– Ну, напечатают… Ну, кто-то прочтет. И что?
– Да, тупик, согласна с тобой, – соглашалась Лина.
– Ты вообще знаешь, чем живут твои потенциальные читатели? – продолжала она допрос после короткой паузы, необходимой для трансфера вина в желудок. – Что им интересно? Какие проблемы их волнуют? На каком языке они говорят?
– Ну русском… – неуверенно отозвался Македонов.
– Я не об этом. Я про другой язык тебе говорю… Ты не врубаешься, они хотят видеть в книге себя, свой мир, свои болячки, а ты о чем пишешь… Варь, он не врубается, твой Македонов.
– Неа, – соглашалась Варя. Ей казалось, что Македонов болен, а теперь пришел врач и подтверждает неутешительный диагноз, который уже успела поставить она сама.
– Вот Варя переслала мне один из твоих рассказов. Ну и что там? Рефлексия, бродящая кругами на длинной привязи, как мул, который крутит мельничное колесо. Какой-то мужик ходит по берегу моря, думает, мыслит, потом опять ходит, песок ногами пинает, камушки подбирает всякие. Это невозможно же, б…дь, выдержать, простите мне мой французский. Почему я должна покупать книгу, в которой бродит этот мужик? Я-то тут при чем? Ты мне напиши про настоящих, живых людей, вот как Алексей Иванов тот же. Там живая плоть в тексте, живые персонажи. Хотя бы даже этот географ, который со школьниками сплавляется по реке. И язык там подлинный, так люди в действительности и говорят. А у тебя просроченный фарш, а не язык. Просроченный лет так на семьдесят, – добавила она.
Решив, что про фарш уже слишком и Мак может обидеться не на шутку, Варя решила перевести разговор на другую тему, предъявив Лине гнездо с голубями.
Она открыла дверь на балкон и молча кивнула в направлении стула. Голубка вся сжалась, втянув голову в плечи и ожидая расправы.
– Прелестно, – сказала Лина, покачивая бокалом в руке, и было неясно, каков процент издевки в этом слове. – А квартиру назовите голубятней.
– Ты же свою не называешь собачатней, – огрызнулся Антон, который, как и подозревала Варя, обиделся на просроченный фарш, но сейчас подвернулась хорошая возможность осадить Варину приятельницу под более благородным предлогом, не выдавая того, насколько она задела его самолюбие.
У Лины было два французских бульдога, которых она любила больше всего на свете, может быть, даже больше себя самой, хотя, конечно, на этот счет у Македонова были большие и обоснованные сомнения. Антон не помнил, как их звали и, слава богу, был не знаком с ними лично, но фотографии видел не раз и не два. Они приносились в распечатанном виде на фотобумаге, а в фейсбуке появлялись через день. Антон сначала лайкал их тоже через день. Потом раз в неделю, раз в месяц и наконец лайкать перестал вовсе, делая вид, что не подозревает об их существовании. И вот теперь эти Нуф-Нуф и Наф-Наф (почему-то пыхтящие песики представлялись Антону под такими именами) стали томагавком, брошенным на тропу войны. Так сказать, двумя яблоками раздора.
Лина ничего ему не ответила, просто смерила взглядом с головы до ног, делая вид, что пытается отыскать в нем хоть что-то достойное, неважно во внутреннем или внешнем облике, но, не найдя, повернулась к нему задом, а к Варе, соответственно, передом.
– Теперь с вашего балкона в квартиру побегут птичьи блохи, – констатировала она тоном специалиста, – и от них потом уже хрен избавишься. У моей знакомой была такая история, это настоящий кошмар, они чесались потом полгода всей семьей. Они же еще и заразу переносят, эти блохи. Или вши, я уже не помню, кто там у этих голубей. В любом случае что-то, набранное по всем окрестным помойкам.
После ухода подруги Варя подошла к Македонову и остановилась у него за спиной. Он стоял и смотрел на голубку через окно балкона.
– Что будем делать? – спросила Варя.
– Ей там уютно, под стулом, – сказал он. – Как в шалаше. Помнишь, мы в детстве играли в шалаш? Строили его из веток в лесу. Там было сумрачно и прохладно даже в жаркие дни. И казалось, что ты отмотал тысячи лет назад и живешь в эпоху динозавров.
– Я не про птицу, – вздохнула Варя. – Не выкинешь же ее теперь вместе с гнездом.
– А про что тогда? – спросил Антон, затаив дыхание.
– Сама не знаю. Про нас. Про тебя. Про твои тексты. Про…
– Он тебе нравится? – спросил Македонов не оборачиваясь.
– Нравится… Не знаю, как это объяснить. Да, нравится, иначе бы не встречалась с ним. Но по-другому. Просто с ним я отдыхаю, но… Я же пыталась тебе объяснить, это другое. Да, глупо в этом сознаваться мужчине, которого любишь, но был период времени, когда меня физически к нему влекло.
– А теперь? – спросил Антон. От слов «мужчине, которого любишь» сердце несколько раз скакнуло у него в груди и теперь затаилось, приберегая удары для следующего рывка.
– Теперь я оглядываюсь на эти несколько месяцев и думаю, неужели это была я. Не узнаю себя, представляешь. Не понимаю, куда делась эта сила, которая бросила меня к нему. Я понимаю, что ты на меня злишься, но на самом деле… Это даже хорошо, что так вышло.
Македонов удивленно заглянул ей в глаза, и Варя поспешила объяснить:
– Я поняла, что тебя я люблю, а его нет. И что можно любить по-разному. Или можно думать, что любишь и не любить при этом, и наоборот, любить и не думать о том, что любишь.
– Из тебя выйдет хороший наперсточник.
Варе хотелось ему объяснить, что было несколько дней, в которые ей вдруг показалось, что она нашла что-то настоящее, но это быстро прошло. Так бывает, когда идешь по берегу моря, видишь вроде красивую ракушку, потом поднимаешь ее, отряхиваешь песок, нагибаешься, промываешь в набежавшей волне – и отбрасываешь в сторону. Совсем как в рассказе Македонова, над которым они только что смеялись с Линой. А выходит – в нем есть что-то такое… Потому что ничего не осталось от того мелькнувшего великолепия, которое ей померещилось в этой отполированной морем ракушке. Обычное наваждение: смотришь на ничем не примечательную вещь, и вдруг она начинает тебе казаться необычной. Потом пелена спадает, и видишь, что ничего нет. И не было. И в то же время было, и поэтому так трудно от этого избавиться.
– Дай мне время, я уверена, что все будет хорошо.
– Может, мне пока съехать к кому-нибудь из друзей? – спросил он сдавленным голосом.
– Кому ты об этом говоришь, Мак, – ответила она ласково. – У тебя нет друзей, ты сам это знаешь. Я твой единственный друг.
– Тогда я пока поживу у тебя, – сказал он, по-прежнему не поворачиваясь. – По старой дружбе.
– Конечно.
Она подошла совсем близко, он чувствовал ее дыхание на шее. Положила руку ему на плечо.
– Ты очень на меня злишься, Мак? – спросила она шепотом.
– Не знаю, – честно сказал он.







