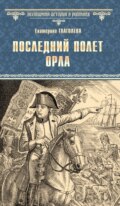Екатерина Глаголева
Огонь под пеплом
2
Борго, 9 июля 1809 года.
Любезный брат!
Вы укоряете меня за то, что я редко докучаю Вам своими письмами, но мне, право, совестно обременять почтовую службу и изводить бумагу, которую, кстати, не так-то легко раздобыть в последние дни, ради унылых подробностей нашей скучной жизни в глуши, тогда как Ваши письма мы зачитываем до дыр, ибо они составляют наше единственное развлечение.
Мы живем безвылазно в нашей усадьбе; Vater занимается утром с управляющим и проверяет книги, пока я обхожу службы и распоряжаюсь насчет обеда; перед обедом он выходит на прогулку, после отправляется отдохнуть на часок и затем до самого вечера сидит у себя в кабинете: пишет мемуары. В это время мне строго-настрого запрещено играть на клавикордах, чтобы не мешать ему, поэтому я забросила музыку и пристрастилась к рисованию. Господин Рютенберг недавно похвалил мои акварели и рисунки полевых цветов, но я приписала его комплименты обычной любезности воспитанного человека; я прекрасно знаю, что не имею никаких талантов, но надо же чем-то спасать себя от скуки. Иногда Vater зовет меня к себе и зачитывает несколько страниц, которые я должна выслушивать в почтительном молчании, воздерживаясь от замечаний любого рода. Вечером, после ужина, если господин Мольтке почему-либо не в состоянии составить ему компанию, мы играем пару партий в шахматы или я читаю вслух из книги, которую укажет Vater. Поскольку его библиотека состоит в основном из военных трактатов и жизнеописаний великих людей, мне стоит большого труда воздерживаться от зевоты во время этого чтения, и это приводит его в раздражение. Ах, как мы были бы счастливы, если бы Вы смогли приехать к нам хотя бы на месяц! Больше Вы вряд ли выдержите, потому что мы надоедим Вам до смерти, ревниво вырывая Вас друг у друга, ненасытно наслаждаясь Вашим обществом и Вашими рассказами.
Наконец-то и у меня есть что рассказать Вам: третьего дня в Борго закрылся сейм, об открытии которого, верно, знали только вы один во всей Вестерботнии, и тоже благодаря мне. Vater нарочно не ездил в город, пока русский царь находился в Финляндии, и лишь вчера позволил мне поехать, чтобы сделать несколько визитов и купить кое-что из нужных вещей. Мёллерсверды принимали царя у себя; они готовились к этому несколько недель, но Vater запретил мне интересоваться приготовлениями и даже упоминать о них в разговоре; о том, чтобы поехать к ним на бал, не могло быть и речи, хотя я и без его запрета ни за что бы не поехала. Господин П., который гостил у Мёллерсвердов, немедленно покинул их, как только узнал, что́ они затевают; он явился к нам среди ночи, кипя от гнева, и Vater долго не мог потом уснуть, так что пришлось ставить ему пиявок и класть уксусные компрессы на лоб. Мне претит передавать Вам досужие сплетни, но в городе все говорят лишь об одном: Мёллерсверды сильно рассчитывают на чары своей Ульрики, приглянувшейся императору, чтобы получить должность в новом правительстве. Не могу поручиться Вам за точность сведений, полученных из третьих рук, однако дыма без огня не бывает; если Вы встретите Карла М., спросите его сами, верно ли это. А впрочем, решайте сами. Вы знаете меня лучше меня самой и должны понимать мои чувства, среди которых господствует разочарование. Воистину, высокие идеалы стали недоступны для большинства людей, достойных лишь презрения! Как быстро они применяются к новым обстоятельствам! Казалось, еще вчера господин Мёллерсверд с гордостью читал нам письма Карла о стойкости наших солдат и о генерале Сандельсе, разделяющем с ними все лишения, готовым есть одну кашу на воде, лишь бы изгнать русских захватчиков из Финляндии, и сожалел о своей ране, помешавшей ему остаться в армии и защищать наше Отечество вместе с сыном, а ныне тот же самый человек выторговывает себе материальные выгоды в обмен на добродетель своей дочери! Надеюсь, ей кто-нибудь объяснит, что этот товар можно пустить в ход лишь один раз – в отличие от порока, из которого делают разменную монету.
Ах, дорогой Густав! Если бы я могла макать перо в свою горечь, буквы были бы чернее! Взять хотя бы этот сейм, который открывали с такой торжественностью: можно ли выдумать что-то более нелепое и ничтожное? Вместо радения об интересах нации – постыдное искательство и корыстолюбие; только крестьянское сословие еще помнило о вещах действительно важных, ходатайствуя, например, о праве пользоваться по-прежнему шведским языком во всех официальных бумагах, прошениях и судебных делах. Дворяне же и даже духовенство наперебой стремились захватить себе как можно больше привилегий, доходных мест и разных выгод, обобрав при этом других. Только теперь у меня раскрылись глаза, я вижу, почему мы оказались в столь незавидном положении, иначе и быть не могло!
Увидав, что кнут уже не нужен, царь припрятал его на время и щедрой рукой раздает отравленные пряники: в Або учредили правительственный совет, в Петербурге – некую комиссию для непонятных целей, обещают уменьшение налогов и прочие послабления, финляндцам раздают огромные жалованья, привлекая на русскую службу. Законами и казной ныне управляют отрешенные от шведской службы майоры и полковники, сосланные в Тавастланд и Эстерботнию и извлеченные оттуда, чтобы сделаться чиновниками. Не стоит и говорить, что их заботит только собственный карман, да им и ума бы не хватило ни на что иное, зато в корыстолюбии им равных нет: состоя на службе при полном жалованье и столовых деньгах, они выпрашивают для своих жен пенсии на булавки, а самим себе – прогонные на заграничные поездки для поправления здоровья, подорванного беспробудным пьянством… Мне рассказывали, что один из них, прежде прозябавший в полунищете и питавшийся солеными лещами с кислым молоком, принялся закатывать роскошные пиры и объелся до смерти! Стыд, стыд, стыд! Меня удивляет, однако, снисходительность царя: он должен понимать, что за деньги возможно купить только пресмыкательство, но не таланты. Не кроется ли в этом некий умысел? Ах, я, кажется, понимаю: он ждет, что, пожив несколько времени под управлением таких «сынов Отечества», мы сами попросим его прислать нам дельных чиновников из России, и тогда с остатками национальной гордости и коренными законами будет покончено. О Густав, как бы мне хотелось оказаться дурной пророчицей!
Простите, любезный брат, если я доставила Вам новые огорчения. У Вас хватает своих забот, Вы ждете от нас ободрения и поддержки, а я вместо этого сею уныние. Вот видите, как мало проку от моих писем! Но, ради бога, не лишайте нас своих, мы ждем их с нетерпением, какое может сравниться лишь с нетерпением царя Итаки, завидевшего родные берега после десятилетних скитаний!
Надеюсь, что Вы пребываете в добром здравии; мы ежедневно молимся вместе с Vater, прося Всевышнего сохранить Вас и уберечь от ран и болезней. Господи, сжалься над Швецией! Мысленно прижимаю Вас к сердцу, милый Густав, и целую Вас так нежно, как позволительно только любящей сестре.
Шарлотта
PS: Агнета Р. Вам кланяется, просит не забывать ее и по возможности написать ей хоть несколько строк, вложив в письмо для нас. Она тоже молится о Вас.
3
В центре комнаты стоял бильярдный стол с потертым зеленым сукном, но дожидавшиеся аудиенции были не в настроении развлекать себя игрой. Игнаций Потоцкий сидел на стуле, закинув ногу на ногу, Тадеуш Матушевич разглядывал картину «Первое вручение ордена Св. Стефана», Миколай Брониковский смотрел в окно. В этот час западное крыло Шёнбруннского замка находилось в тени; приятная прохлада овевала лицо, взгляд бродил по геометрическим узорам клумб, птичий щебет заглушал тревожные мысли.
Две недели назад князя Юзефа Понятовского восторженно встречали в Кракове, оставленном австрийцами; Кельце тоже был в руках поляков, как и Сандомир, а вот Лемберг пришлось оставить, чтобы не распылять свои силы. Весть о разгроме австрийцев при Ваграме воодушевила князя чрезвычайно; войска Домбровского и Сокольницкого соединились с корпусами Понятовского и Зайончека, чтобы взять армию эрцгерцога Карла в клещи и уничтожить, но тут прискакал курьер с сообщением о перемирии, подписанном в Цнайме двенадцатого июля. Мир сейчас, когда до победы оставался всего один шаг и Западная Галиция могла снова стать польской?.. Генерал Брониковский сам дрался при Ваграме и был поражен не меньше прочих внезапным прекращением войны. Конечно, он ничего не смыслит в большой политике, его дело – сражаться, а не критиковать действия императора, и всё же он был обескуражен. В Шёнбрунне шли парады и смотры; Удино, Мармона и Макдональда произвели в маршалы Империи, Наполеон раздавал генералам и чиновникам доходные поместья в Ганновере, Брониковскому же поручили сформировать Второй Вислинский легион из… австрийских пленных. Мыслимо ли, чтобы австрийцы пошли отвоевывать для Польши земли, которые сами у нее и отняли? Все знают, что войска Великого герцогства Варшавского сражаются вместе с французской армией, преследуя единственную цель – возрождение Отчизны. Сил мало, самые лучшие гибнут первыми; в начале кампании князю Понятовскому даже пришлось оставить Варшаву, чтобы сохранить армию, он смог освободить столицу лишь через сорок дней, и тогда дамы сняли траур, который носили всё это время… Приезд в Вену Потоцкого и Матушевича чрезвычайно обрадовал генерала: ему объявили, что он включен в депутацию от Галиции к императору французов; всё наконец-то разъяснится! Депутаты передали свои верительные грамоты Дюроку – «тени императора»; аудиенцию назначили на третье августа…
Напольные часы в углу пробили одиннадцать; белые с позолотой двери раскрылись.
Наполеон стоял, заложив правую руку за борт жилета; Дюрок сделал несколько шагов навстречу депутатам и шепотом предупредил Потоцкого, что император не желает слушать приготовленную им речь. В лице опытного политика не дрогнул ни один мускул, хотя Брониковский был уверен, что старик удивлен и встревожен. Гофмаршал представил посетителей, как полагалось по протоколу, все трое поклонились.
– Которой дорогой вы ехали сюда? – спросил император. – Долгим ли было путешествие? Что за правительство вас направило?
– Мы прибыли через Брюнн, из Галиции, – отвечал Потоцкий. – Новое правительство, учрежденное князем Понятовским, уполномочило нас сложить к подножию трона вашего величества свидетельства нашей покорности, умоляя при этом принять нас под ваше высокое покровительство.
Бонапарт переменил позу, сложив руки на груди.
– Я очень рад вашей верности; я вижу в ней доказательство вашего желания стать тем, чем вы были прежде. Я глубоко уважаю поляков, они все храбрецы, но чем выше возносится человек, тем больше умаляется его свобода: надобно применяться к событиям и обстоятельствам. Чего вы хотите от меня?
Матушевич обменялся удивленным взглядом с Брониковским: неужели непонятно?
– Я не подбивал вас на восстание, не брал с вас никаких обязательств и сам вам ничего не обещал. – Своими фразами Наполеон кромсал прекрасные надежды. – В Варшаву я вступил победителем, тем полякам я мог и должен был помочь, но повернись дело иначе…
«Я бросил бы их на произвол судьбы», – договорил за него Брониковский. Ему стало жарко, во рту пересохло и сильно хотелось пить.
– Не стану отрицать: у Франции нет и никогда не было лучших союзников, чем Швеция, Персия, Польша и Турция, но Польша – это та статья, на которой обрываются все переговоры с Россией, – продолжал Бонапарт, поясняя свои слова жестами. – Россия прекрасно понимает, что уязвима только со стороны Польши; теперь, когда Швеция уступила ей Финляндию, с севера Петербург защищен. Не моя вина в том, что в седьмом году Швецией правил безумец: я вынужден был разделить свои силы и отправить двадцать тысяч штыков в Штральзунд, где эти одержимые хотели высадить десант вместе с англичанами. Если бы эти двадцать тысяч были у меня при Фридланде, я перешел бы Неман и восстановил бы Польшу, хотя Австрия и была способна помешать этим планам, держа в Галиции наготове сто тридцать тысяч солдат. Однако восстановление Польши не так невыгодно для Австрии, как для России. Будь я русским императором, я ни за что не согласился бы ни на малейшее увеличение Варшавского герцогства, наоборот, я сражался бы с ним год, два, десять – сколько потребуется, чтобы уничтожить его. При этом я не могу не признать, что Россия много помогла мне в эту кампанию.
– Помогла? – вырвалось одновременно у Потоцкого и Матушевича.
Корпус князя Голицына практически бездействовал и нарочно продвигался вперед очень медленно, из-за этого Сандомир пришлось отбивать у австрийцев дважды, а осада Кракова затянулась так надолго…
– Вы возразите мне, что они не сражались так, как вы. – Наполеон заложил руки за спину, сделал несколько шагов, потом резко повернулся к депутатам. – Да, но почему? Потому что они должны были соединиться с вами – с вами, их природным врагом. Будь на вашем месте французы, русские были бы уже здесь: им нет дела до того, что Австрия обескровлена, лишь бы Польша не приложила к этому руку. Увидев же, что вы сражаетесь одни, без французов, они прекрасно поняли, что вы стремитесь к приращению своих земель, а на это Россия не может смотреть спокойно. Но и Франция не может ввязаться в войну ради вас, ибо для этого ей придется послать к вам на помощь сто тысяч, даже сто пятьдесят тысяч солдат – десяти тысяч вам будет мало.
– Но ваше величество! – взмолился Потоцкий. Наполеон остановил его, выставив вперед ладонь.
– Я знаю, что восстановить Польшу – значит вернуть равновесие в Европу, но этого невозможно сделать без войны с Россией, – отчеканил он. – Россию же можно будет принудить к этому, лишь полностью уничтожив ее армию.
Депутаты сокрушенно молчали, не зная, что на это возразить. Император заговорил снова:
– Князь Понятовский допустил оплошность, овладев Галицией не от моего имени. Русские никогда не вторглись бы в земли, охраняемые моими орлами. Провозглашать везде имя саксонского короля[2] – значит навлечь на этого государя новую войну – не как с союзником Франции, а один на один, между ним и Россией.
Он сделал еще несколько шагов по комнате.
– Вот вы говорите, что Россия в эту кампанию не сделала ни единого выстрела. А мне какое дело? Общая цель достигнута: повсюду, куда дошли русские, австрийцы отступили, без русских князю Понятовскому было бы не удержаться в обеих Галициях – Западной и Восточной. Разделив свои малые силы, он не преуспел бы нигде, объединив их, он оказался силен лишь в одном месте. Кстати, сколько жителей в Галиции?
Потоцкий переглянулся с Матушевичем.
– Я полагаю, свыше трех миллионов человек, ваше величество, хотя перепись населения давно не проводилась, – ответил он, и Матушевич согласно кивнул.
– Она не сможет выставить столько же войск, сколько Варшавское герцогство, – отрезал Наполеон. – Если вы поставите под ружье шестьдесят, даже семьдесят тысяч солдат, Франции всё равно придется держать наготове сто пятьдесят тысяч для их поддержки, чтобы Россия не вздумала напасть на вас. Вы должны понять, что в данный момент восстановление Польши невозможно. Я не могу ввязываться в войну, в которой у Франции не будет всех шансов на победу. Я не хочу воевать с Россией, тем более что она не вмешивается в мои дела в Испании, Португалии и Папской области.
– Вы сказали, сир, что французские орлы уберегли бы наши земли от вторжения русских, – подал голос Матушевич. – Мы здесь, чтобы просить вас о покровительстве, мы с благодарностью и покорностью…
– Вы хотите, чтобы я дал вам французского короля? – перебил его Бонапарт. – Дьявол, это значило бы развязать войну. Франции и думать об этом незачем. Объявить рекрутский набор на четыре года раньше срока, разорить Францию просто из удовольствия вести войну – я не могу на это пойти. Войну нельзя начинать, если не получишь от нее очевидных выгод. И потом, вы сами видели, как тяжело французам воевать в вашей стране: климат отвратительный, дорог нет, непролазная грязь, болезни, приличного вина не достать – французы не захотят сражаться на севере.
Потоцкий подбирал слова, но император не дал ему их высказать.
– Не скрою: я питаю особую любовь к вашей нации, – продолжил он снисходительным тоном. – В ваших светских гостиных я чувствую себя, словно в Париже, в вашем обхождении и ваших обычаях есть что-то французское. Но все личные чувства в политике ничего не значат. Согласитесь, что вашей нацией трудно управлять. Я дал вам в короли одного из мудрейших монархов Германии, и то еще находятся горячие головы, стремящиеся ему перечить, хотя им совершенно не в чем его упрекнуть.
С этим Брониковский не мог не согласиться.
– Предположим, что министры сумеют договориться и Россия согласится на раздел Галиции. В таком случае ей нельзя будет дать меньше, чем вам. Увеличение Варшавского герцогства придется русским не по нраву, они воспрепятствуют ему и захотят войны, а вы недостаточно сильны, чтобы противостоять России. Пруссия тоже потребует свой кусок пирога, Австрия непременно захочет сохранить хоть что-нибудь. Так что даже если вы соедините шестьдесят тысяч солдат из Галиции с войсками Варшавского герцогства и саксонцами, этого будет мало, чтобы противостоять русским. Как же я должен поступить, чтобы русские остались довольны? Сам еще не знаю.
Брониковский был ошеломлен. В последние дни император дважды удостаивал его аудиенции, и каждый раз он слышал от него прямо противоположные речи – миндальничать с Россией Бонапарт не собирался. Возможно, он хочет скрыть свои истинные намерения от Потоцкого и Матушевича, зная об их связи с домом Чарторыйских? Всем известно, что князь Адам Ежи Чарторыйский был близким другом императора Александра и стремился возродить Польшу под эгидой России; именно он настоял на заключении союза с Австрией и Англией, приведшего к войне. Неудача под Аустерлицем отрезвила царя; князь Адам лишился министерского поста, сохранив за собой лишь управление Виленским учебным округом, но как знать наверное… Возможно, император французов хочет, чтобы в Петербург дошли именно эти его слова.
– Сир, – снова заговорил Потоцкий, – в Варшаве вас встречали как освободителя, и я совершенно уверен, что точно такой же прием вам оказали бы в Кракове и Лемберге. Да, нас мало, но каждого из нас одушевляет любовь к Отчизне. Мужчины, женщины, молодежь и старики – мы все готовы пролить свою кровь до последней капли, лишь бы Польша вновь была единой!
Наполеон махнул рукой.
– Восторженность жителей Галиции вполне естественна. Армия, возглавляемая польским полководцем и состоящая из поляков, вступает в страну, некогда бывшую Польшей, – есть от чего вскружиться голове у нескольких юнцов, которые записываются в армию, чтобы сражаться за свое отечество. Но Франция здесь ни при чём, и я не чувствую себя обязанным делать для Галиции то же, что сделал для Варшавского герцогства.
– И всё же позвольте мне изложить наши доводы в особой записке и подать ее на рассмотрение вашего величества.
– Пишите ваши записки, составляйте прожекты, вреда от этого нет, – разрешил Наполеон. – Поскольку они выйдут не из моего кабинета, я к ним буду непричастен, но только не рассказывайте никому о том, что я вам сказал.
* * *
В лакированную столешницу была вделана шахматная доска с расставленными на ней фигурами из слоновой кости, перед которой сидел манекен в белом тюрбане, полосатой сорочке и отороченной мехом темно-красной накидке с короткими рукавами. Его деревянное лицо лоснилось в отсветах канделябра, серые глаза таращились в пустоту, вислые черные усы были из настоящего волоса, как и густые брови. В левую руку, согнутую в локте, вставлена курительная трубка с очень длинным тонким мундштуком, правая вытянулась рядом с шахматной доской.
– Как вы изволите видеть, сир, перед вами автомат для шахматной игры.
Подвижный немец лет тридцати семи, с прической а-ля Тит, в синем фраке с большим вырезом и белом галстуке, завязанном сложным тугим узлом, так что поднятые кверху края накрахмаленного воротничка на треть закрывали бакенбарды, суетился возле большого ящика, за которым сидел манекен. С ужимками ярмарочного фокусника он открывал и закрывал три дверцы, демонстрируя мудреный часовой механизм из большого горизонтального валика с колками и разнокалиберных шестеренок, соединенных рейками, сквозное пустое отделение, где лежала только красная бархатная подушка, и выдвижной ящик со вторым набором шахмат, который он извлек и поставил на отдельный столик.
Наполеон рассматривал автомат, слегка склонив голову набок и рассеянно слушая перевод Маре, с трудом поспевавшего за подробными пояснениями. Это та самая машина, которая оконфузила немало великих и знатных людей, сразившихся с нею; только великий Филидор сумел поставить ей мат после довольно длинной и утомительной партии. Что ж, Бонапарт тоже француз, возможно, ему удастся сделать то, чего не удалось Екатерине Великой, ее сыну Павлу и даже Бенджамину Франклину. Шахматные фигурки – белого и красного цвета. В прошлом веке такую форму носили французы и англичане.
– Довольно, герр Мельцель, – оборвал Наполеон немецкую болтовню. – Начнем.
Немец поклонился, подошел к ящику и щелкнул каким-то рычажком сбоку; послышалось тоненькое скрежетание шестеренок, манекен поднял правую руку, коснулся ею своего лба и сердца и наклонил голову. Наполеон уселся перед шахматным столиком напротив, перевернул доску белыми фигурами к себе и передвинул королевскую пешку с е2 на е4.
– Прошу великодушно извинить меня, сир, но первый ход всегда делает Турок, – проблеял Мельцель.
– Белыми всегда играю я, – отрезал император.
Мельцель подошел к машине и передвинул белую пешку. Под мелодичный скрежет правая рука автомата простерлась над доской, пальцы сжались и разжались, красная королевская пешка переползла на е5; Мельцель переставил ее на доске императора. Наполеон двинул ферзя на f3, автомат – коня на с6. Белый слон вырвался вперед; красные высвободили второго коня. Что ж, быстрота и натиск – залог победы. Второй слон белых встал перед королем. Автомат звякнул, рука повисла в воздухе, а затем отодвинула белого слона обратно.
– Прошу прощения, сир, но вы ошиблись. Слон так не ходит.
Наполеон улыбнулся и пожал плечами, поставив на ту же клетку коня. Играя с Бертье, маршалом Мюратом или госсекретарем Маре, ему тоже случалось «ошибаться», но еще никто и никогда не сделал ему замечания: все знали, что император не любит проигрывать.
Красные слоны рвались вперед; белые сделали рокировку. На одиннадцатом ходу из-под лакированного дерева донесся металлический голос: «Шах!» Наполеон вывел своего короля из-под угрозы от красного коня и заслонил пешкой от ферзя, но рядом тотчас очутился второй красный конь. «Шах!» Белые фигуры оказались зажаты собственными пешками в левом углу, в то время как красные спокойно вели планомерное наступление. Белый король метался туда-сюда; уже на девятнадцатом ходу стало ясно, что ему не уцелеть, однако Наполеон продолжал партию, надеясь, что соперник всё-таки допустит ошибку. На двадцать четвертом ходу белая пешка съела последнего красного слона, но в это время над белым королем навис красный ферзь, поддержанный конем. Наполеон встал, взял своего короля, положил на доску и вышел. Дюрок и Маре поспешили за ним, Мельцель остался один.
Выждав немного, он подошел к дверям, за которыми только что скрылся император, прислушался, прикрыл их поплотнее, вернулся к машине и распахнул дверцы. На месте часового механизма сидел человек, скрючившись в три погибели; свеча под прозрачной шахматной доской сразу погасла. Мельцель помог ему выбраться.
– Герр Альгайер, вы были великолепны! – восхищался он, пока шахматист, упершись руками в колени, ловил ртом воздух с характерным свистом астматика.
Гроссмейстер сунул в карман кошелек с деньгами, даже не пересчитав их. Деньги, конечно, нужны: Альгайер задолжал за квартиру, играет в шахматы в кафе по гульдену за партию, чтобы оплатить скудный обед… Хорошего места бывшему солдату не найти; жениться? Кто пойдет за немолодого, нищего да еще и с больными легкими… Но сегодня на его улице праздник: австрийский воин победил Наполеона Бонапарта! Хотя об этом никто и не узнает…