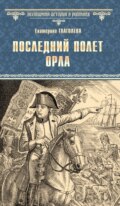Екатерина Глаголева
Огонь под пеплом
7
Ровно в семь часов вечера в дверь негромко постучали. «Войдите!» – тотчас откликнулась Мария. Она давно была готова. Спустившись по лестнице вслед за Дюроком, она села в закрытую карету без всяких украшений; лакей закрыл дверцу и встал на запятки.
Карета катила по штрассе и гассе мимо чистеньких домиков с лавками на первом этаже и ставнями на окнах, старинных особняков с рыцарскими доспехами в нишах, кофеен, церквушек, рынков и площадей, пока булыжная мостовая под колесами не сменилась дорожками Шёнбруннского парка. Вот и Липовая аллея, потайная дверь, полутемная лестница…
Указания насчет сегодняшнего вечера, которые Мария получила утром через Дюрока, были странно кратки и неопределенны: она должна просто прибыть во дворец в назначенный час. Обычно Наполеон заранее планировал вечернюю прогулку по Шёнбруннскому парку, вылазку в простой карете без гербов на берег Дуная или в Пратер, чтобы она могла одеться по погоде; он мог и просто пожелать, чтобы она сидела рядом, пока он диктует письма секретарю или читает важные бумаги – тогда накидка была не нужна…
Мария покинула Польшу сразу, как только получила письмо императора, солгав старику Валевскому, что едет на воды в Гастуну. В первые дни после приезда она проводила с Наполеоном всего один час, после которого он становился нетерпелив, и Мария тотчас уходила, чтобы не приводить его в раздражение, но со временем она сделалась ему необходима. Если они не могли увидеться (у императора столько дел!), он писал ей нежные письма: «Тысяча поцелуев в губки моей Мари»… В такие дни они оба страдали от разлуки, хотя Мария вовсе не жила затворницей: в Вене и в особенности в Бадене оказалось много поляков – знакомых и родственников, как, например, Юзефа Витт – молодая вдова Адама Валевского, вышедшая замуж за Яна Витта, сына графини Софии Потоцкой от первого брака. (Правда, этот Витт, щеголявший богатством своей матери, – гвардейский полковник на русской службе, принявший русское подданство, и мать его тоже живет в России.) Все поляки знали о связи графини Валевской с императором и вовсе не осуждали ее, наоборот: его слова, оброненные еще два года назад в Варшаве, о том, что благодаря Марии он еще больше полюбил их нацию, наполнили всех надеждой. С красавицей-патриоткой искали дружбы; новые знакомые делали ей комплименты, а старые твердили в один голос, что она необычайно расцвела и похорошела. В этом не было ничего удивительного: женщину лучше всего красит счастье, а Мария была счастлива. Все долгие шестнадцать месяцев разлуки, пока Наполеон находился в военных походах, она жила в польской глуши лишь упованием на новую встречу, и вот ее мечты сбылись! Но русским офицерам-волонтерам, часто бывавшим у Витта и пользовавшимся его великолепной конюшней и экипажами, было невдомек, почему Мария всегда говорит об императоре с таким благоговейным восторгом. А как же иначе! Это великий человек, его имя гремит по всему миру, он мановением руки способен двинуть в поход огромные армии, уничтожить древние государства и создать новые; все помыслы, все побуждения исходят от него и возвращаются к нему! И при этом он может быть так нежен, ласков и добр…
Она в бывших покоях императрицы Марии-Терезии. Малая галерея – картины, позолота, канделябры; два китайских кабинета, овальный и круглый, – шелковые занавеси, фарфор, узорчатый паркет; спальня… «Мари!» – император берет ее за руки и целует их по очереди несколько раз. Милый… Ах, они не одни! Из тени выступает полный невысокий мужчина с серебряными пушистыми волосами и приветливо-добрым взглядом из-под набрякших век, с красным бантом ордена Почетного легиона в петлице черного сюртука. Это доктор Корвизар, личный врач императора. Мария уже видала его в Париже. Наполеон говорит, что не верит в медицину, но верит в Корвизара. «Госпожа графиня…» Ах, вот зачем он здесь… Щеки Марии розовеют от смущения. Она раздевается за ширмой и ложится на большую позолоченную кровать под красным пологом – ту самую, на которой они… Наполеон стоит лицом к окну, заложив руки за спину… У доктора Корвизара такие мягкие, теплые пальцы… «Благодарю вас, мадам, это всё». Доктор кланяется ей, они с императором выходят за двери, оставив Марию одну… Через несколько минут Наполеон вбегает и падает перед ней на колени, обнимая ее ноги; она гладит его по голове; он поднимает к ней счастливое лицо, его глаза сияют как звезды. «Это правда! Ты сделаешь меня отцом!»
* * *
Корвизар никогда не ошибается, Мария беременна и должна родить в начале мая. О, Жозефина! Как это было жестоко с твоей стороны – намекать на то, что проблема во мне! «Bonaparte… Bon à rien!»[4] Да, у тебя двое детей от первого мужа, но это ты, ты своими изменами довела себя до того, что твое чрево стало бесплодно. Теперь уже бесполезно пить горстями пилюли, которые тебе дает наш добрый доктор, тем более что половина из них – пустышки.
Я любил тебя, мучился от страсти, сгорал от желания, когда ты лишь позволяла мне любить себя. Я и сейчас тебя люблю, только иначе: ты слишком глубоко вошла в мою жизнь, пустила в ней корни, тебя не так-то легко будет выкорчевать из моей души. И ты приносишь мне удачу – да, это правда! Все самые яркие свои победы я одержал ради тебя, с твоим именем на устах! Я устремлялся вперед, под пули и ядра, сносил дождь, грязь и стужу, спал в каких-то гнусных сараях на соломе, на сквозняках, лишь бы скорее завершить кампанию и увидеться с тобой, но для тебя мои победы были ничто, ты ждала меня с неоплаченными счетами, а пока я с большим трудом разбирался с ними и улаживал все дела, ты умудрялась наделать новых долгов! Ты не хотела жертвовать своими удобствами, чтобы находиться рядом со мной, ободрять и поддерживать! Ты не желала идти на уступки! Этот мерзкий пес Фортюне, цапнувший меня за ногу в нашу брачную ночь, потому что я занял его место в твоей постели, – ты не позволила мне его прогнать, я должен был терпеть его, а когда он наконец-то издох и я запретил тебе заводить другого, ты тут же купила мопса! Потом ты вдруг переменилась, заговорила о любви, принялась ревновать меня – я смеялся над этими письмами. Смеялся со слезами, потому что всё еще желал тебя, но длинные зимние ночи в Познани я проводил один, без тебя. Ты хотела быть со мной, но для тебя это означало, что я должен быть с тобой – я, самый порабощенный из людей, вынужденный покоряться ходу вещей и силе обстоятельств! Ты пыталась разжалобить меня слезами и устыдить упреками, тебе было страшно ехать на войну – тебе, жене генерала Бонапарта! Говоря, что любишь, даже обожаешь меня, ты думала только о себе, ведь мне нужна была веселая, любезная и счастливая жена, которая повиновалась бы мне не с плачем и стенаниями, а с радостью! И вот теперь полька (не зря ты так опасалась полек!), молодая, красивая и кроткая, прилетавшая ко мне по первому зову, ничего не просившая для себя и не ждавшая награды, подарит мне величайшее счастье в жизни, доказав, что я могу быть отцом!
Мари добродетельна, сомнений быть не может. Насчет того, другого ребенка, которого родила Элеонора Ревель, когда я был в Пултуске, такой уверенности нет: он мог быть и сыном Мюрата. Но теперь я знаю точно: я не бесплоден!
Недавно мне исполнилось сорок лет. Для женщины этот возраст опасен, для мужчины – еще нет. Я говорил об этом с Корвизаром, он уверил меня, что время еще есть, мужская сила зависит от крепости организма и особенностей темперамента, а также серьезности ошибок, наделанных в молодости. Тебя я не могу считать ошибкой, ты моя радость и беда, ты – моя жизнь! Но ты же знаешь Корвизара; истины, которые он преподносит под глазурью шутки, не становятся от этого менее горьки. Я спросил его: если шестидесятилетний мужчина женится на молодой женщине, сможет ли он еще иметь детей? Он отвечал: «Иногда». А в семьдесят? «Непременно, сир». Мужу Мари семьдесят два. Я не могу долго ждать.
8
Борго, 7 сентября 1809 года.
Дражайший брат!
Ваше долгожданное письмо одновременно обрадовало меня и опечалило. Я сокрушаюсь при мысли о Ваших ранах и о претерпеваемых Вами лишениях, но знание того, что Вы живы, переполняет меня счастьем. Как могли Вы призывать смерть и сожалеть о том, что Господь в великой благости Своей не позволил Вам расстаться с жизнью! Я вижу в этом знак Его благоволения к нам и нашему несчастному отечеству. Подумайте сами, что станется со Швецией, если она лишится лучших своих сыновей? Мы проиграли войну, плоды поражения горьки, но нельзя допустить, чтобы яд сомнения и уныния отравил Ваше сердце! Приготовляя к себя к вечной жизни, подумайте о том, что судьба Швеции еще не решена, в ней могут произойти перемены к лучшему, и если не Вы, то дети Ваши будут им споспешествовать, но для этого Вы должны оставить потомков и вложить в их сердца те чувства, которые укрепляли Вашу душу в боях и походах.
Не скрою от Вас, что Vater чувствует себя всё хуже. В начале сентября мы приехали в Борго: я уговорила его показаться врачу, но весть о несчастном мире совершенно расстроила его здоровье, теперь он почти не встает с постели, мне стоит больших усилий уговорить его проглотить несколько ложек бульона. В городе служили молебен, звонили в колокола и требовали выражений радости по поводу заключения мирного договора. Вы можете себе представить, с какими чувствами нам приходилось сносить всё это. Единственное, что может доставить нам радость при сих прискорбных обстоятельствах, – это Ваше скорейшее возвращение, ведь в трактате обозначен трехмесячный срок для отъезда пленных и аманатов. Если Вы в силах перенести путешествие, дорогой Густав, заклинаю Вас поспешить, чтобы Вы застали Vater в живых.
Есть, впрочем, еще одна причина поторопиться. На днях меня навестила Агнета Р., я показала ей Ваше письмо. Мы плакали в объятиях друг друга. Агнета открыла мне, что к ней посватался один русский чиновник, и ее родители склонны дать согласие на брак, одна мысль о котором приводит ее в ужас. Я бы ввела Вас в заблуждение, если бы сказала, что все в Финляндии несчастны от прихода русских. Есть люди, которые во всём отыщут выгоду, и окончание войны многие восприняли с величайшим облегчением, ожидая возвращения достатка из-за прекращения реквизиций и поборов. Урожай в этом году очень плох, нам всем грозит голод, немало наших знакомых уповают на помощь русского царя, который сейчас всячески стремится задобрить своих новых подданных, расточая на них свои щедроты. Господь не велит нам судить других людей, и кто я такая, чтобы корить родителей Агнеты за их желание обеспечить дочери надежное положение и достаток, но не хлебом единым должно жить человеку, как сказано в Писании. Я поклялась ей не передавать Вам тех слов, которые вырвались у нее в минуту отчаяния, но чуткое сердце должно подсказать Вам если не сами эти слова, то чувства, их породившие. И если они находят отклик в Вашей душе, то… Ах, милый Густав! Не слушайте меня, в моей голове всё смешалось, я уже не знаю, что хорошо, а что худо, на что уповать, кому довериться… Вчера господин Рютенберг, зайдя проведать Vater (который впал в беспамятство), просил моей руки, обещая стать мне опорой и защитой. Я сказала, что пока не могу дать ему ответа. Он немолод и небогат, все его достоинства суть доброта и хорошее воспитание, но есть ли у меня выбор? Только одно: стать его женой или Вашей обузой, заставив брата содержать сестру – старую деву.
Нам объявили, что шведы, проживающие в Финляндии, могут в трехлетний срок вернуться в свое природное отечество, забрав с собой всё движимое имущество и продав имения. Три года – это не так уж и много, зная, сколько придется хлопотать. Наш король отрекся от нас, причем не только за себя, но и за преемников своих.
Уехать в неизвестность или остаться, признав над собой владычество царя?
Простите, милый брат, за столь сумбурное письмо, оно вполне отражает хаос, царящий сейчас в моих мыслях. Я каждый день молюсь о Вашем исцелении и возвращении. В надежде скоро Вас обнять, остаюсь нежно любящая вас сестра
Шарлотта.
* * *
– Бедная Швеция! – вздохнул Мещерский. – Право, совестно видеть, когда храбрый и мужественный народ, в коем столь сильно чувство справедливости, обобран силою своим соседом, не имеющим никакой нужды в новых землях, – свои бы освоить, – единственно в угоду союзнику – волку, прикрывающемуся овечьей шкурой.
– Неужели вся Финляндия отходит к России? – спросил его Искрицкий.
– Вся, даже и Торнео с частью Лапландии. До самой Норвегии.
– И Аландские острова, – добавил Вигель. – Аландское море и Ботнический залив будут служить морскою границей, поделенные пополам: ближайшие острова к твердой земле Аландской и Финляндской будут принадлежать России, а что прилежит к берегам Швеции, то останется ей.
Лакеи подали жаркое и переменили у них тарелки.
– Пожалуй, впервые нет никакой радости от победы, – снова заговорил Мещерский. – А всё потому, что со стороны это выглядит как подачка корсиканца: возьмите себе Финляндию, так и быть, только не мешайте мне покорять Испанию и разделаться с Австрией. Скажу вам по секрету, господа (надеюсь на вашу скромность), моя жена недавно получила письмо от своего брата, который ныне находится при Бонапарте, в Вене. Так вот Бонапарт раз призвал его к себе и спросил: «Какой части Австрийской Галиции желает Россия?» Другими словами, не желаете ли поживиться за счет вашего бывшего союзника?
Петр Сергеевич Мещерский, недавно назначенный обер-прокурором в пятый департамент Правительствующего сената, был женат на Екатерине Ивановне Чернышевой.
– И что же ответил ваш шурин?
– Он, разумеется, сказал, что ему не могут быть известны намерения государя на сей счет. Тогда Наполеон заявил ему, что из желания сделать приятное императору Александру готов подарить ему Лемберг и еще кое-какие местности, где есть жители, исповедующие греческую веру.
– Подарить?
– Вот именно. И еще высказал сожаление, что государь не прислал к нему в Вену графа Румянцева, занятого на Фридрихсгамском конгрессе, чтобы скорее склонить австрийцев к уступкам. Не кажется ли вам, что, угождая России таким образом, Бонапарт еще больше унижает ее?
– К несчастью, да, я совершенно согласен с вами, – сказал коллежский советник Искрицкий, женатый на польке. – Мы не должны принимать от него подачек. Если России что-либо потребуется, она возьмет это сама, предъявив свои законные права.
– Законные права? – вмешался Вигель. – А по какому праву Швеция владела Финляндией? По праву сильного, по праву завоевателя, так почему же Россия не могла воспользоваться тем же правом? Разве Ижора, Копорье, Карелия не принадлежали раньше Великому Новгороду? Вот вам и законные права.
Двадцатидвухлетний Филипп Вигель, служивший в Коллегии иностранных дел, был самым младшим из собравшихся за столом в гостинице Демута (хотя и остальные были далеко не стары: Мещерскому сравнялось тридцать лет), однако говорил с апломбом и уверенностью. Его отец был тайным советником, а сестра – замужем за генералом Алексеевым, раненным в ногу во время сражения при Ратане, которое предрешило исход мирных переговоров.
– «Бедная Швеция!» – передразнил он Мещерского. – А как она сделалась сильной и богатой? Благодаря чреде знаменитых государей, наследников викингов – этих грабителей, наводивших ужас на северные и южные берега. Только ими и красна была Швеция, и почти все они вступали в единоборство с Россией! Мудрый Густав Ваза поспешил окончить войну через два года, понимая, что Швеции в ней не выстоять; неосторожный Карл Густав напал на Речь Посполитую, обратив против себя Россию, Австрию, Пруссию, Данию и в итоге был вынужден молить о мире; Карл XII получил такого щелчка под Полтавой, от которого шведы долго не могли опомниться, но Густав III, не наученный их примером, напал на Ревель и наделал суматохи в Петербурге, пытаясь доказать непобедимость шведского флота. Нет, не надобно было давать им воли, завоевание Финляндии есть славное деяние его величества!
Его собеседники промолчали. Искрицкий хотел было напомнить Вигелю о том, что при первой их встрече Филипп сам рекомендовался шведом (его дед был взят в плен под Полтавой), но передумал. Еще ни один спор, в котором противники сражались бы историческими аргументами, не оканчивался торжеством какого-либо мнения, признанного всеми остальными бесспорным. Поэтому Александр Михайлович перевел разговор на современность, заговорив о Комиссии финляндских дел, во главе которой был поставлен статс-секретарь Сперанский.
Однако это имя подействовало на Вигеля, как красная тряпка на быка. Сперанский – вот кто пытается подражать Бонапарту! Бог весть, кем он себя возомнил, вылез из грязи в князи, а теперь и самую знатность всхотел топтать! Это ведь он сочинил проекты указов, подписанных государем, которые положили конец вольности дворянской, заставив придворных служить, а статских проходить испытания в науках для производства в чины. Что это, если не республиканство с его равенством? Неужто молодой камер-юнкер, воспитанный гувернером-французом, согласится переписывать бумаги под начальством выжиги-повытчика? А почтенный отец семейства усядется на школьную скамью, лишь бы получить чин, который раньше достался бы ему единственно выслугою лет? Зато напористые разночинцы теперь полезут во все щели. Сперанский, этот бывший дьячок, не любящий и не понимающий благородного сословия, хочет передать управление всей Россией в руки семинаристов! Он очаровывает государя песнями сирен, рисуя ему прекрасную картину будущего, однако оказывает ему медвежью услугу в настоящем… Искрицкий бросил быстрый взгляд на Мещерского: пятый департамент Сената исполнял функции упраздненной Тайной экспедиции, в трактире наверняка есть полицейские агенты, лучше прекратить слишком вольный разговор. Воспользовавшись новой сменой блюд, он заговорил о театре, до которого Вигель был большой охотник.
Филипп еще слишком молод, только жизненный опыт учит стискивать зубы, чтобы мысли не сорвались с языка. Такие, как он, додумавшись до чего-нибудь, тотчас мнят себя мудрецами и рвутся поучать других, вместо того чтобы сказать себе: я знаю, что ничего не знаю. Рассеянно слушая вигелевскую болтовню, Александр Михайлович размышлял о другом. Ежегодное увеличение налогов, убытки от запрещения на торговлю с Англией в угоду Бонапарту, обесценение ассигнаций – всё это вызывало недовольство, но ведь не мог же государь об этом не знать? В гостиных ходят слухи о заговоре; утверждают, что император сидит в Петергофе, опасаясь быть свергнутым в городе. Искрицкий знал наверное, что государя задержала в Петергофе дорожная неприятность, из-за которой он повредил себе ногу, – можно ли после этого верить всему, что говорится в свете? Салонные революционеры составляли проекты переворота (поднять сто тысяч человек и разместить их по полкам, арестовать канцлера Румянцева, статс-секретаря Сперанского и адмирала Чичагова, тяготеющих к Франции, сделать вдовствующую императрицу регентшей при десятилетнем великом князе Николае или провозгласить императрицей великую княгиню Екатерину) и даже расписывали по пунктам будущую внешнюю политику: оставить в Валахии генерала Милорадовича для сдерживания турок, а остальную Дунайскую армию, вверив ее князю Багратиону, перебросить в Галицию и на западную границу, помириться с Англией, готовиться к войне с Францией… Стратеги! Пустая бочка громче гремит…
* * *
От резкого холодного ветра немело лицо. Взобравшись в седло, барон Георг Карл фон Дёбельн проскакал мимо выстроившихся перед ним солдат – новобранцев в мундирах с иголочки, сверкавших желтыми пластронами и белой портупеей, шведских ветеранов в грязной одежде с пятнами крови и финнов в лохмотьях и опорках. Остановившись в центре, он обнажил голову, оставшись с черной повязкой на лбу (она закрывала след от пули, изуродовавшей его двадцать лет назад).
– Солдаты! – воскликнул он и почувствовал, как горло стиснуло от волнения. – Солдаты! Весть о мире – без сомнения, радостная, ибо она полагает конец всем бедствиям опустошительной войны, начатой вследствие политической ошибки и совершенно изнурившей за два года силы нашего отечества.
Генерал помолчал, переводя дыхание.
– Но Швеция теряет Финляндию, третью часть своих владений. Она лишается гордого финского народа – вернейшей опоры своей; отечество удручено горем и сожалением о невосполнимой утрате. Премудрость Всевышнего решила судьбу нашу. Примем же чашу сию терпеливо и безропотно.
Видно было, как у продрогших людей стучали зубы; ветер выдавливал слезы из-под покрасневших век и теребил лоскуты изодранной одежды.
– Воины, товарищи, братья! Ваши подвиги велики и им соразмерна благодарность, мною вам изъявляемая. Гордитесь тем, что вы видели сии остатки финского воинства. – Дёбельн вскинул правую руку в их сторону. – Помните и уважайте их! Смотрите на их изнуренные тела и бледные лица; читайте на них доказательства усердных, хотя и бесплодных, подвигов. Финны! Возвратившись в свои дома, передайте благодарность Швеции вашему народу. Вы идете в путь с истерзанною одеждою, изувеченными и простреленными членами, но носите на себе явные украшения доблестных воинов. Врагами шведской земли вы никогда не можете сделаться, в том я убежден, но пребудьте всегда ее друзьями.
Барон вновь почувствовал спазм в горле. Эта речь давалась ему нелегко.
– Если могущество русского правительства воспрепятствует исполнению ваших желаний и воли, изливайте на прежнюю отчизну безмолвные благословения! – продолжил он. – Напоминайте о ней детям вашим. Из рода в род мы будем благословлять и почитать вас. Об одном прошу: когда вы будете приближаться к местам, где мы побеждали врагов, и увидите насыпи, покрывающие тела павших товарищей наших, почтите прах их дружеским вздохом. Они умерли героями и над могилой их носится слава. Время всё изменяет, с ним всё забывается, но союз воинский, связанный боями, опасностями, кровью и смертью, не разрушается никогда. Братство воинов длится всю жизнь, и благодарность, которую я изъявил вам и опять изъявляю, находится в глубине сердец наших.
По холодным щекам Дёбельна потекли горячие струйки.
– Если бы речь моя могла сопровождаться кровавыми слезами, они полились бы теперь из глаз моих! – выкрикнул он.
Солдаты брали на караул, когда он медленно проезжал мимо, держа в поднятой правой руке свою двууголку.