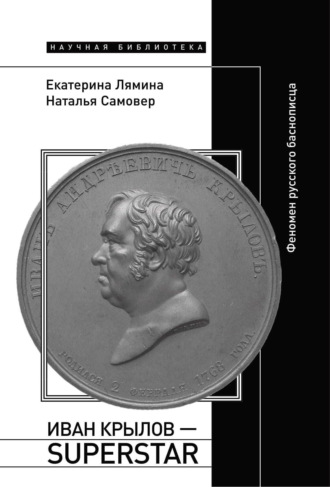
Екатерина Лямина
Иван Крылов – Superstar. Феномен русского баснописца
УДК 821.161.1(092)Крылов И.А.
ББК 83.3(2=411.2)52-8Крылов И.А.
Л97
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CCLXXI
Екатерина Лямина, Наталья Самовер
Иван Крылов – Superstar. Феномен русского баснописца / Екатерина Лямина, Наталья Самовер. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Что представляет собой феномен Ивана Крылова? Как формировался его прижизненный и посмертный культ, и почему сегодня он остается тем же «дедушкой», что и полтора века назад? Каким образом он добился такого статуса, популярности, коммерческого успеха своих басен? Почему именно ему первым из русских поэтов был сооружен памятник в столице? В поисках ответов на эти вопросы авторы книги значительно расширяют круг источников (в том числе архивных и визуальных) и критически переосмысливают уже известные литературные связи Крылова. Это позволяет Е. Ляминой и Н. Самовер проанализировать факты его биографии в широком общественном, культурном и идеологическом контексте эпохи, реконструировать коммерческие, литературные и поведенческие стратегии поэта, а также проследить процесс формирования его публичного облика и литературной репутации. Екатерина Лямина – филолог, автор многих исследований по истории русской литературы первой половины XIX в. Наталья Самовер – историк, автор работ в области русской литературы и интеллектуальной истории первой половины XIX в. и истории советского общества.
На обложке: Медаль в память 50-летия литературной деятельности И. А. Крылова. П. П. Уткин. 1838 г.
ISBN 978-5-4448-2479-5
© Е. Лямина, Н. Самовер, 2024
© А. Хайрушева, дизайн обложки, 2024
© OOO «Новое литературное обозрение», 2024
Введение
Хозяин наконец попросил его пожаловать к ужину. «Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреевич», – заметил он хлопотливо и как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то насмешливо… «Так-таки непременно поросенок?» – казалось, внутренно промолвил он – грузно встал и, грузно шаркая ногами, пошел занять свое место за столом.
И. С. Тургенев. Литературные воспоминания
Начальным импульсом к этой работе стал дискомфорт, своего рода «интеллектуальный сквозняк». По аналогии с обычным сквозняком: окна закрыты, в комнате вроде бы тепло, но откуда-то все-таки дует – он ощущается в самой бесспорности и понятности Крылова. Почему, собственно говоря, для русской культуры эта фигура столь бесспорна? И почему на это не повлияли многочисленные политические катаклизмы XX века? Почему холостяк и одиночка Крылов – «дедушка» с 1838 года и по сей день, и перемен тут не предвидится? Как он, патентованный ироник и скептик, относился к переименованию в «дедушку» и вообще к присвоенному ему при жизни статусу национального достояния?
Словом, стоило перед этой понятностью остановиться в задумчивости, как она пошла трещинами, и из них роем вылетели самые разные вопросы.
Особенно рельефно они выглядят на фоне методологических прорывов в гуманитарных науках, в том числе в истории литературы, свидетелями которых мы стали в последние три десятка лет. За это короткое, по историческим меркам, время вышло множество замечательных работ, обновились подходы к классикам и неклассикам, к литературному канону и пантеону, к становлению литературных репутаций, к поэтике, статусу и судьбе отдельных текстов, к взаимодействию истории, идеологии, политики и собственно литературы. Но весь этот методологический инструментарий к Крылову почти не применялся, хотя он и несомненный классик, и поэт с отнюдь не тривиальной литературной биографией, и еще многое, многое другое. Скажем больше: Крылов как будто стал невидимкой. Даже погружаясь в сюжеты, теснейшим образом с ним связанные – профессионализацию литературы, становление и динамику канона, литературные полемики, – ученые словно смотрят сквозь него. Это не сознательное игнорирование; исследовательская мысль, преследуя свои задачи, просто огибает Крылова как громоздкую мебель, случайно оказавшуюся на пути. Поневоле вспоминается хрестоматийное «Слона-то я и не приметил».
Объяснение этой обескураживающей странности как будто бы лежит на поверхности.
Для русской интеллектуальной традиции и, в частности, литературоведения, в основных чертах сложившихся во второй половине XIX – начале XX века, и признаком жизни вообще, и маркером художественного качества является изменение, развитие и в особенности – конфликт. Методологически такая позиция находится в бергсонианском поле: для автора «Творящей эволюции» характерна идея вечного развития как сверхценности и единственного значимого содержания культурного процесса.
«Мятущийся», насыщенный, по Шкловскому, «энергией заблуждения» писатель априори интересен исследователю: во-первых, он заметным образом реагирует на происходящие вокруг него процессы, а во-вторых, является их активным участником или даже сам их формирует. В такой иерархии Лесков, скажем, котируется ниже и виден куда хуже1, чем Лев Толстой, чью биографию современный исследователь характерным образом начинает с такого постулата: «Эта мучительная борьба [за свободу быть собой] будет пронизывать всю его жизнь вплоть до самых последних мгновений»2.
Между тем «настоящего» Крылова, то есть Крылова-баснописца, во всем – и во внешнем облике (пожилой человек «осанистой наружности»), и как автора (прежде всего баснописец) – отличает стабильность, едва ли не статуарность. Достигнув в басне как моножанре того, что большинству современников, да и последующим поколениям представлялось совершенством, он практически исчерпал ее потенциал. В литературной борьбе и полемиках он перестал принимать сколько-нибудь заметное участие лет за двадцать до смерти. При этом слава Крылова возрастала одновременно с падением его творческой активности. Десять лет – с 1830 по 1840 год – корпус его басен переиздавался без особенных изменений; после 1841‑го новые басни перестали появляться даже в альманахах, и лишь последнее авторское издание 1843 года напомнило публике о том, что «русский Лафонтен» еще жив.
Когда писатель молчит и мало проявляет себя публично, исследователю почти нечем поживиться. И, видимо, именно поэтому Крылов становится невидим для оптики, настроенной прежде всего на поиск конфликтов, явных признаков эволюции или «созвучности» той или иной эпохе. Если он и попадает в поле зрения, то воспринимается или как инертный фон, или как белый шум, который в силу бессодержательности не подлежит анализу.
И тем не менее, и мы надеемся это показать, Крылов до самой смерти и первое время после оставался очень значимой фигурой литературного и еще более – общественного поля. Феномен Крылова, парадоксальный для традиционного литературоведения, имел сложную, далеко не только литературную природу и с каждым годом все менее зависел от физического бытия баснописца. Недаром его похороны не стали частным событием, а превратились в апофеоз той концепции национальной культуры, которая ассоциируется с именами министра Уварова и императора Николая I.
Казалось бы, обретенный при жизни статус классика гарантировал Крылову внимание ученых, но на деле вместо изучения его наследия произошло лишь закрепление официозного нарратива. Первое полное собрание сочинений было подготовлено П. А. Плетневым уже через полтора года после смерти поэта, к середине 1846-го, и вышло в 1847 году3. С точки зрения текстологии, это не было научное издание, но открывавший его очерк Плетнева «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова» оказал огромное влияние на все дальнейшие исследования, в особенности биографические.
Плетнев был не только критиком и признанным историком литературы, но и ректором Санкт-Петербургского университета, то есть государственным чиновником высокого ранга. Как подчиненный C. С. Уварова он был вполне лоялен тому курсу, который проводил министр, а во время работы над очерком принимал деятельное участие в задуманном Уваровым небывалом коммеморативном проекте – сооружении памятника Крылову, первого монумента в честь поэта в столице. Собственно, аналогом этого монумента и призвана была стать его работа.
Плетнев построил свой очерк вокруг народности баснописца, понимаемой именно в уваровском вкусе: как всесословность, общепонятность и едва ли не мистическая слиянность с самим духом русского языка, что и служит залогом бессмертия. Эта стройная концепция, практически не поддающаяся проблематизации, образует основу для биографии, представляющей Крылова в свете не столько фактов, сколько анекдотов. Как известно, поэт, в чьей жизни было немало темных и даже сомнительных в моральном отношении страниц, не любил распространяться о себе и оставил своим биографам больше недоумений, чем уверенности, – отсюда и традиционная «анекдотичность» его жизнеописаний.
Обширная прижизненная крыловиана в изобилии поставляла Плетневу материал, и он откровенно признавался своему приятелю Я. К. Гроту:
о Крылове всякий бы, кто хоть несколько знал его, написал интересный рассказ. Это было лицо в высшей степени по всему, как говорится, рельефное. Жуковский, Баратынский и подобные им люди слишком выглажены, слишком обточены, слишком налакированы. Их жизнь и отношения совпадают в общую форму с жизнию и отношениями всех. Притом же Крылов жил и умер без роду и племени. Нечего церемониться, какой бы смешной случай ни пришлось рассказать. Попробуй это сделать с Карамзиным, например. Претензий не оберешься4.
Вступительная статья, написанная Плетневым для однотомника басен, вышедшего в том же 1847 году, гораздо короче, но строится на тех же концептах: Крылов – гениальный русский самоучка, природным талантом «победивший все затруднения»; человек, который после бурной молодости вел самую тихую и скромную жизнь, не помышляя о славе, но ценимый всеми современниками и, что было «самой утешительной наградой», «высокими особами императорского дома»; неопрятный, ленивый, однако не жалевший сил, чтобы тщательно отделывать свои тексты; писатель, который «мыслил и действовал самобытно» и в итоге стал тем, чьими наставлениями «поучаются люди всех сословий, всех возрастов <…> ученики и наставники, люди на первых местах в государстве и не выходящие из семейного круга»5.
То, что плетневские тексты надолго стали библией крылововедения, имело вполне прозаическую причину. Без малого тридцать лет права на издание Крылова принадлежали Юлию Юнгмейстеру и Эдуарду Веймару – тем самым, которые в 1847 году выпустили первое полное собрание его сочинений и первое посмертное собрание басен со вступительными статьями Плетнева. За эти годы оба биографических очерка, многократно переизданные6, едва ли не срослись с крыловскими текстами, сами став каноническими. Их влияние на несколько поколений читателей и исследователей можно сравнить с процессом импринтинга, то есть запечатления некоторых представлений, принимаемых как данность и в дальнейшем не подлежащих критическому осмыслению.
Официозность культа Крылова ясно ощущалась современниками. Естественной реакцией на него стало появление гротескно-пародийных «баснописцев» Козьмы Пруткова7 и капитана Лебядкина.
Обновления взгляда можно было бы ожидать от полного собрания сочинений Крылова, над которым работал В. Ф. Кеневич – первый настоящий исследователь его жизни и текстов. В той же степени, в какой Плетнев был «человеком Уварова», Кеневича можно назвать «человеком Ростовцева». С 1852 года он преподавал в военно-учебных заведениях, подведомственных Я. И. Ростовцеву, и как педагог был проводником тех образовательных идей, которые, по мнению современников, сделали генерал-майора Ростовцева своего рода альтернативным министром народного просвещения, действовавшим одновременно с Уваровым. Ростовцев был не только другом и душеприказчиком Крылова, но и безусловным почитателем его текстов и личности. При нем изучение басен Крылова стало одним из столпов образования и воспитания кадет8. Без сомнения, именно он познакомил молодого историка литературы со своим подчиненным К. С. Савельевым, зятем и наследником Крылова, владельцем его архива.
Кеневич начал работу с рукописями баснописца, видимо, в 1850‑х годах, и уже в 1868‑м, когда праздновалось столетие, выпустил примечания ко всему корпусу басен – первый в истории русской литературы монографический комментарий, снабженный и текстологическими справками9. Он же в 1871 году напечатал «шутотрагедию» «Подщипа» («Трумф»), до того широко известную в списках10.
Проживи Кеневич дольше, ему, скорее всего, удалось бы выпустить в свет то собрание сочинений Крылова, над которым он работал в 1870‑е годы11. Если судить по «Библиографическим и историческим примечаниям к басням…», оно должно было основываться на научных принципах и ставило бы в отношении биографии поэта и его текстов те вопросы, от которых Плетнев был очень далек. Однако смерть прервала эту работу12, и даже «Примечания…» Кеневича после 1878 года не переиздавались, хотя все последующие исследователи опирались на них как на классический труд.
Таким образом, во второй половине XIX века плетневский нарратив господствовал, новых текстов после издания «Трумфа» долго не выявлялось, и стало казаться, что о Крылове не только все уже известно, но и все сказано.
Одновременно происходило активнейшее внедрение его басен в педагогическую практику. Министерство народного просвещения тысячами закупало эти книги для своих нужд, школьные хрестоматии доносили крыловские тексты буквально до каждого ребенка, посещающего хоть какое-то учебное заведение. Именно с тех пор берет начало представление о «дедушке Крылове» как о преимущественно детском писателе и некоем специальном детском моралисте, знакомство с текстами которого является необходимым элементом воспитательного процесса. Такая дидактическая инструментализация, разумеется, тоже не способствовала поддержанию серьезного научного интереса к Крылову.
Следующее собрание сочинений, подготовленное В. В. Каллашем, вышло в 1904–1905 годах. Раскритиковав плетневский трехтомник как далеко не полный, подготовленный непрофессионально и давно устаревший, ученый заявил, что его издание «впервые даст возможность русскому обществу познакомиться с настоящим Крыловым»13. В самом деле, оно претендовало и на полноту (четыре тома, охватывающие все выявленное к тому времени наследие, включая письма), и на первые подступы к установлению авторитетных источников текстов, и на пересмотр привычной репрезентации поэта. Каллаш интерпретировал «настоящего Крылова» в индивидуалистическом ключе, видя в его биографии драму могучего таланта, не имевшего возможности реализоваться в полной мере. В соответствии с духом нового, предреволюционного времени из нее исчезли реверансы в сторону императорской фамилии; Каллаш обошелся без идиллического любования народностью и даже демонстративно отказался от неизбежного мема «дедушка Крылов». В его очерке первая половина жизни баснописца – цепь лишений и разочарований, во второй он прячет за баснями «безысходный скептицизм и эгоизм», а его «громадная интеллектуальная сила» опускается, «не найдя себе поддержки и возбуждения в окружающей среде»14.
Собрание сочинений под редакцией Каллаша с его проблематизированным взглядом на Крылова выдержало два переиздания – в 1914–1915 и в 1918 годах, однако переломить инерцию плетневского нарратива не удалось. Он благополучно пережил даже революционные потрясения: просто в советские времена в биографии и творчестве баснописца стали усиленно педалироваться демократическое происхождение, социальная сатира и антикрепостнические убеждения.
Секрет нерушимости такого дискурса, как ни странно, заключается в его неоднородности. Работая в 1845–1846 годах над вступительной статьей к собранию сочинений, Плетнев, чуткий к современным веяниям, внес в благостную «уваровскую» картину бытия великого русского баснописца неожиданно резкое осуждение его бездеятельности, доходящей до морального квиетизма:
В своем праздном благоразумии, в своей безжизненной мудрости он похоронил, может быть, нескольких Крыловых, для которых в России много еще праздных мест. Странное явление: с одной стороны, гений, по следам которого уже идти почти некуда, с другой – недвижный ум, шагу не переступающий за свой порог15.
Впечатление, произведенное этим обличением на литературную молодежь конца 1840‑х годов, было столь велико, что, как мы полагаем, стало триггером для замысла романа «Обломов»16. Между тем, занимаясь в 1856 году, уже в совершенно новой общественной атмосфере, подготовкой второго издания своего трехтомника, Плетнев, сохранив все прежнее, столь же неожиданно добавил к очерку новый фрагмент – теперь героизирующий баснописца как «мирного воина общего добра и просвещения»17.
Напластования смыслов, казалось бы, прямо противоречащих друг другу, придали канонической биографии Крылова незапланированную поливалентность. Выстроенный Плетневым нарратив оказался в целом приемлемым для всех и в любых ситуациях, независимо от того, какой на дворе порядок – монархический или советский. Он допускал любые трактовки – от умиления до возмущения. Локомотивом, увлекающим эту дребезжащую старинную конструкцию в будущее, оказалась идея крыловской народности – впервые сформулированная Булгариным, подхваченная Уваровым, возведенная на пьедестал Плетневым, дополнительно освященная авторитетом Гоголя и Белинского.
Необходимо отметить, однако, что предпринятая Каллашем попытка проблематизации принесла свои плоды. Его соображения явно отзываются в том, что и как писал в середине 1920‑х годов Л. С. Выготский. Хотя этого ученого, в свете создававшейся им эстетической теории, больше интересовала басня, ее природа, психологические и педагогические проекции, он тем не менее поставил ряд важных вопросов относительно парадокса, который представляет собой каноническая репутация Крылова:
Не кажется ли удивительным тот факт, что Крылов, как это засвидетельствовано не однажды, питал искреннее отвращение к самой природе басни, что его жизнь представляла собой все то, что можно выдумать противоположного житейской мудрости и добродетели среднего человека. Это был исключительный во всех отношениях человек – и в своих страстях, и в своей лени, и в своем скепсисе, и не странно ли, что он сделался всеобщим дедушкой, по выражению Айхенвальда, безраздельно завладел детской комнатой и так удивительно пришелся всем по вкусу и по плечу, как воплощенная практическая мудрость18.
Сами же басни он интерпретировал как преодоление того отвращения, которое Крылов испытывал к басне прозаической, во вкусе Лессинга, с «тесным горизонтом», и реализацию его врожденной страсти к драматургии. Этот внутренний трагизм, «второй план, который присутствует в каждой его басне, углубляет, заостряет и придает истинное поэтическое действие его рассказу», Выготский изящно и проницательно назвал «тонким ядом»19, имея в виду скептическую двусмысленность любого текста и высказывания Крылова, ощутимую, но крайне плохо поддающуюся описанию.
«Психология искусства» была издана только в 1965 году, через тридцать лет после смерти автора, и осталась неизвестной его современникам, В противном случае к ней мог бы апеллировать другой ученый, который в середине 1930‑х годов предпринял энергичную попытку шагнуть за пределы обветшавшего нарратива20. Речь идет о Г. А. Гуковском, тогда возглавлявшем в Пушкинском Доме группу по изучению литературы XVIII века. В 1935 году в серии «Библиотека поэта», пытавшейся сочетать высокие научные стандарты с доступностью широкой аудитории, вышел двухтомник Крылова, к которому 33-летний ученый написал поистине новаторскую статью21. Он первым указал на то, что «официализированный» Крылов играл роль своего рода идеологической «скрепы» николаевского царствования:
…именно Крылов был использован для демонстрации правительственных тенденций, демократических навыворот. Он был истолкован как выразитель народного духа, простой, мол, русский человек, конечно, мол, с лукавцей, с юмором, – но в сущности и добродушный, и сметливый, и меткий на острое слово, и, главное, накрепко верноподданный. <…>
Николай I все более втягивал его славу в орбиту своего влияния. Стилизация российского мужичка-полубуржуа «дедушки Крылова» стала казенным штампом. Ряд анекдотов, рисующих Крылова как кондового националиста в духе уваровской формулы устоев российского государства, приобрел характер официальной биографии Крылова. Нечего и говорить, что эта легендарная биография совершенно не соответствовала действительной жизни Крылова.
Николай I объявил Крылова покорнейшим и благонамереннейшим писателем так же, как он объявил Чаадаева сумасшедшим22.
Теперь Крылов оказывается фигурой, в высшей степени актуальной для нового советского дискурса. Ожидаемую альтернативу набору старинных идеологем Гуковский находит в эпизодах скрытой и явной (классовой) борьбы самого поэта и вокруг него. Крылов 1937 года разительно отличается от Крылова 1847-го. В юности он, нищий разночинец, обреченный на унизительное продвижение по социальной лестнице, противопоставляет себя литераторам-дворянам, хотя и многому у них учится. В зрелые годы рисует в баснях убийственные картины русской жизни, «страшные обвинительные акты» – «действительно простонародным, хотя не избегающим и „высоких“ элементов» языком, который звучал «грубоватым и отчетливо плебейским диссонансом». И всегда безошибочно чувствует социальную и мировоззренческую пропасть между собой и даже расположенным к нему «пушкинским кругом», не говоря уже о врагах и недоброжелателях, к числу которых ученый относил и Карамзина, и Шишкова, и Вяземского23.
На естественно возникающий вопрос о том, в какие формы саморепрезентации все это выливалось, Гуковский отвечает тезисом о закрытости Крылова, сознательной уклончивости его поведения и любых высказываний во второй – и главный, ибо связанный с баснями – период жизни. Любопытно, что эти идеи восходят к мемориальному очерку антагониста Плетнева – Булгарина24. Подхвачены они были Каллашем, писавшим:
На него сыплются чины, ордена, пенсии, пожалования, академические лавры – он все принимает с ленивой и тонкой усмешкой, ловко устраивает свои отношения и отшучивается, никого не допуская в свой внутренний мир25.
Гуковский, в сущности, лишь риторически трансформирует формулы своих предшественников, окружая их терминами «классовая позиция», «подлинный радикализм», «мелкобуржуазный бунтарь, не нашедший своей среды» и т. д. А в конце статьи практически повторяет Каллаша:
Теперь, во второй половине своей жизни, он исповедует философию маленьких людей, боящихся нового и предпочитающих держаться того, что уже есть <…> правило крайнего индивидуализма, переродившегося в эгоизм как систему взглядов <…> он отвечал на умиления, заигрывания и восторги царской семьи все большим опусканием, разрастанием своего цинизма; он ходил грязный, нечесаный, небритый – широкая, мол, натура. А может быть, он в глубине души смеялся над дворцовой кликой, умилявшейся тем, что он безобразничал у них на глазах26.
К сожалению, несомненная глубина наблюдений Гуковского – в этой статье и в другой, написанной в 1935 году к отдельному изданию «Басен» в малой серии «Библиотеки поэта»27, – потерялась на фоне идеологически заостренных формулировок, а после ареста и гибели ученого в 1950‑м эти его работы не переиздавались и мало цитировались. Тем не менее свежесть его взгляда стимулировала появление в предвоенные годы нескольких важных работ ленинградских филологов – самого Гуковского, его ученика И. З. Сермана, А. В. Десницкого28.
Тот же импульс – впрочем, уже угасающий – дал себя знать и в последнем на нынешний день полном собрании сочинений Крылова29.
Оно стало частью большого коммеморативного проекта, оформленного Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 15 июля 1944 года № 879 «О мероприятиях по увековечению памяти И. А. Крылова в связи со столетием со дня его смерти». Этот документ предписывал выпустить первый том к 21 ноября 1944 года, то есть ко дню столетия (по новому стилю), и его действительно сдали в печать 3 ноября, так что можно себе представить темп, в котором шла работа. Полное собрание сочинений Крылова издавалось под эгидой не Академии наук, а всего лишь Государственного издательства художественной литературы, так что о сколько-нибудь фундированной научной подготовке в таких условиях не могло идти и речи. Анонимная вступительная заметка в начале первого тома вообще не содержит характеристик ни Крылова (за исключением заимствованного из постановления «великий русский писатель-баснописец»), ни итогов его изучения и ограничивается самой краткой историей предшествующих изданий и характеристикой предлагаемого собрания с точки зрения состава и текстологии. Собственно, повод и время выхода этого издания говорили сами за себя: юбилей, пусть даже такой странный, как столетие со дня смерти, пришелся на военное время, и русский баснописец, автор патриотических сочинений времен Отечественной войны 1812 года, снова был мобилизован на защиту теперь уже советской Родины. Напомним, однако, что фоном для крыловского юбилея и собрания его сочинений была мрачная история подготовки юбилейного академического собрания сочинений Пушкина, которое вследствие политического давления выходило вовсе без комментариев30. Порукой идеологической безупречности издания Крылова служило имя его номинального редактора – нового советского баснописца Демьяна Бедного, невольно повторившего то, как за столетие до него сам Крылов своим именем защитил от тогдашних «компетентных органов» журнал «Библиотека для чтения». Фактически же подготовкой издания руководили московские литературоведы Д. Д. Благой, Н. Л. Бродский и Н. Л. Степанов.
Из трех томов этого собрания наиболее качественно был подготовлен третий (и самый важный – включающий басни), ушедший в производство через полтора года после постановления. Он снабжен не только текстологическими справками, но и вариантами, а кроме того, представляет стихотворения (примечания к ним написаны Гуковским) и, впервые в близком к исчерпывающему объеме, письма и деловые бумаги (подготовлены и прокомментированы сотрудником Публичной библиотеки С. М. Бабинцевым).
Несколько отклоняясь в сторону, стоит заметить, что на протяжении восьмидесяти лет, истекших с 1944 года, вопрос о новом собрании сочинений Крылова, которое соответствовало бы современным научным стандартам, вообще не возникал, в том числе и в связи с 250-летием со дня его рождения (2019). Выходившие в издательстве «Художественная литература» двухтомные «Сочинения»31 не включают письма Крылова (и уж тем более к нему), выборочно представляют драматургию и стихотворные тексты за пределами басенного корпуса, снабжены самым кратким комментарием и практически не касаются текстологии, то есть не являются ни полным, ни академическим собранием. Приходится констатировать, что один из самых известных и, добавим, самых любимых литературных классиков был издан под грифом Академии наук всего один раз – в 1956 году, когда в серии «Литературные памятники» вышел фундаментальный том «Басен», подготовленный А. П. Могилянским32. О каких-либо изданиях-«спутниках» нечего и говорить: не существует ни компендиума «Крылов в современной ему русской и европейской печати» (хотя материалы для него начал собирать еще С. Д. Полторацкий в 1820‑е годы), ни даже подступов к биографическому словарю «Крылов и его окружение». Особняком в этой поразительно скудной эдиционной картине стоит выпущенный Л. Н. Киселевой уже в новом тысячелетии том драматических сочинений33. Он выгодно отличается постановкой исследовательской задачи – проблематизировать место драматургии в литературной биографии Крылова, а также полнотой, проработкой текстологии и развернутым комментарием.
Что касается частных крыловских штудий после 1945 года и вплоть до наших дней, то они являют иное, более разнообразное, но столь же странное зрелище. Среди них есть выдающиеся биографические работы, основанные на вновь выявленных документах или новой интерпретации известных, в том числе о Крылове-издателе и Крылове – сотруднике Публичной библиотеки34. Есть труды о поэтике, языке и генезисе – сатирической прозы35, драматургии в целом и «Трумфа» в частности36, басен37, в том числе об отражении в них некоторых политических коллизий и реалий38. Основательно изучено место Крылова в литературных обществах и салонах конца XVIII – первой четверти XIX века39.
Однако все эти достойные исследования в некотором смысле повисают в пустоте, лишенные опоры на обобщающий большой нарратив сопоставимого с ними научного качества. Авторы целого ряда биографий Крылова, вышедших более чем за полвека40, все еще пытаются контаминировать обломки старых формул и барахтаются в массе анекдотов, еще и еще раз безуспешно пытаясь соединить все это в более-менее непротиворечивое целое.
Из усталости и недоумения рождается и симптоматичный, при всей курьезности, тренд последних двух десятилетий, где ключевой для традиционной оценки Крылова концепт «народность», в советскую эпоху понимавшийся как демократизм и виртуозное владение русским поэтическим языком, переосмысляется как духовная связь с традиционной культурой. Отсюда попытки интерпретировать «странности» Крылова через понятие юродства41, а там оказывается недалеко и до ультраконсервативных толкований его как «христианского мудреца» и «мирского старца»42. Это, очевидным образом, финальная точка в деградации догмы, тупик.
Между тем выход существует. Он был найден и указан достаточно давно: в конце 1970‑х – начале 1980‑х годов пунктирную линию от Каллаша через Выготского и Гуковского провели А. М. Гордин и его сыновья. Речь идет об эссе М. А. и Я. А. Гординых «Загадка Ивана Андреевича Крылова» (1979)43, в особенности же о подготовленном А. М. и М. А. Гордиными сборнике «Крылов в воспоминаниях современников» (1982), и о вступительной статье к нему – «Крылов: реальность и легенда»44. Собранные под одной обложкой свидетельства тех, кто лично знал Крылова или наблюдал его (в том числе мемуары одиознейших для советского литературоведения Булгарина и Греча, которые исследователям удалось републиковать), наконец-то сделали возможным осмысление личности, биографии и творчества Крылова как целостного феномена, возникшего и развивавшегося в богатейшем историческом контексте. Впервые удалось убедительно соединить две части его биографии, проследив единую художественную и идейную логику, связывающую Крылова «добасенного» и «басенного» периодов. Для Гординых, смотревших из глубины казавшихся нескончаемыми сумерек советского общества, Крылов – фигура едва ли не трагическая, идеалист, переживший крах надежд и иллюзий эпохи Просвещения и ставший ироником не вследствие конформизма, а от отчаяния. Именно Гордины, вопреки цензуре, сумели если не прямо поставить, то внятно обозначить вопросы об идеологической подоплеке культа Крылова, возникшего еще при его жизни. Они первыми отдали себе отчет в существовании «крыловского мифа» и предложили искать ключ к его «загадкам» и «парадоксам» в художественной, театральной логике. После их работ наивная вера в анекдотическую версию биографии баснописца окончательно стала нонсенсом, однако ее деконструкция все еще требует значительных усилий.






