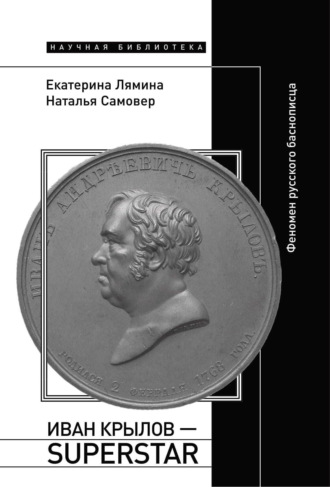
Екатерина Лямина
Иван Крылов – Superstar. Феномен русского баснописца
2
Покровители юноши Крылова. – Ролевые модели. – Шнор и Брейткопф
Неожиданная смерть далеко не старого, сорокалетнего отца 17 марта 1778 года стала переломным событием в судьбе будущего поэта. Если семья и имела какие-то далеко идущие планы, то они пошли прахом. С потерей жалованья Андрея Прохоровича исчез даже тот невеликий достаток, которым жена и дети пользовались при нем. Ивану, между тем, шел только десятый год, а его брату Льву – третий. Прошение вдовы на высочайшее имя о назначении пенсии за мужа удовлетворено не было72, и старший сын поневоле оказался кормильцем73. Уже через три месяца, 15 июня, мальчик, числившийся подканцеляристом в Калязине, был принят на ту же должность во 2‑й департамент Тверского губернского магистрата, который ранее возглавлял его отец74. Для начальства, то есть Тутолмина (Сиверс в эти месяцы отсутствовал), это был действенный способ поддержать бедствующее семейство – никакой системы пенсионного обеспечения, тем более для вдов чиновников, напомним, еще не существовало. Точный размер жалованья Ивана неизвестен75, но в то время заработок подканцеляриста мог составлять до 100 рублей в год.
В этот ли момент или чуть позже, однако номинальная служба Крылова-младшего все-таки превратилась в реальную, и это явно шло вразрез с его интересами и устремлениями. В передаче Ф. В. Булгарина сохранился рассказ баснописца о том, что «повытчик его» (непосредственный начальник, чиновник, ведавший делопроизводством) «был человек грубый и сердитый, и не только журил его за пустые и бесполезные занятия, т. е. за чтение, но, застав за книгою, иногда бивал его по голове и по плечам, а сверх того жаловался отцу»76. Не все детали здесь точны. Разумеется, при жизни Андрея Прохоровича Иван в своем калязинском «повытье» не появлялся, да и поднять руку на сына председателя губернского магистрата никто бы не посмел; но осиротевшему мальчику действительно могло каким-то образом доставаться от сердитого начальника.
К счастью, у Ивана имелись покровители. Он был вхож в дом не только Тутолмина, но и советника наместнического правления Н. П. Львова – бывшего казанского губернского прокурора, еще одного человека, чья биография была связана с пугачевщиной. Согласно довольно путаным воспоминаниям его внучатой племянницы Е. Н. Львовой77, юный Крылов и там пользовался какими-то домашними уроками. Средний сын Львова Александр был на два года старше, что позволяло им учиться вместе. Связь с этим семейством отразилась и в позднейшем юмористическом рассказе самого баснописца о том, как его неуклюжесть однажды привела в отчаяние учителя танцев, занимавшегося с детьми советника78. Возможно, именно у Львовых он приобщился и к музыке, получив первые навыки игры на скрипке.
Однако смерть отца принесла мальчику не только сиротство, бедность и зависимость от чужих щедрот. Как ни странно, она дала ему свободу выбора. Можно не сомневаться, что, будь Крылов-старший жив, он распорядился бы судьбой сына по своему разумению, и уделом Ивана надолго, если не навсегда, стала бы канцелярская служба. Теперь же, подрастая, он мог сам строить планы на дальнейшую жизнь. И здесь вдохновляющим оказался, по-видимому, пример нескольких необычных для провинциальной элиты людей, занятых не только службой.
Прежде всего назовем М. И. Веревкина. Крылова-старшего он мог знать еще со времен пугачевщины. Заведуя походной канцелярией генерал-аншефа П. И. Панина, который в августе 1774 года возглавил правительственные войска, Веревкин занимался составлением «генерального обо всем бунте описания»79 и едва ли прошел мимо такого яркого эпизода, как успешная оборона Яицкого городка.
Уступая А. П. Крылову в выслуге лет, Веревкин сильно опередил его в чинах. Его формулярный список включал и должность асессора только что созданного Московского университета, и директорство в им же основанной Казанской гимназии, где одним из учеников был Державин. Ненадолго появившись в Твери в 1776 году, он вновь приехал туда в 1778‑м, в год смерти Андрея Прохоровича, и занял должность председателя палаты гражданского суда. Вскоре из коллежских советников он был произведен в статские, став особой V класса.
При впечатляющей карьере Веревкин славился и как человек светский, артистичный рассказчик, производивший большое впечатление на слушателей80, среди которых мог находиться и подросток Иван Крылов. Но главное – он, единственный в тогдашней Твери, был настоящим и даже известным автором: статья о нем, пусть совсем короткая, имелась уже в новиковском «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772). Комедия Веревкина «Так и должно» шла на профессиональной сцене, включая придворную, и именно он сочинил пьесы, представление которых стало важной частью торжеств при открытии сначала Тверского, а затем Новгородского наместничеств, в январе и декабре 1776 года соответственно.
При этом, в отличие от большинства даже более именитых сочинителей, Веревкин мог похвастаться особым вниманием и материальной поддержкой самой императрицы. Свыше десяти лет, не состоя ни в какой службе, он занимался только переводами, получая за это 750 рублей в год из средств Кабинета. Мало того: все, что он переводил, печаталось на счет Екатерины II в его пользу. В 1776 году Веревкин был официально определен к статским делам, но выплата дополнительного «литературного» пособия продолжилась, хотя его и уменьшили до 450 рублей – что, заметим, значительно превышало официальный доход А. П. Крылова.
Веревкин прожил в Твери недолго: в сентябре 1781 года он вышел в отставку и покинул город. Все сказанное, однако, позволяет предполагать, что именно он стал той ролевой моделью, на которую в той или иной мере ориентировался Иван Крылов.
Еще одним человеком, чья деятельность могла оказать влияние на формирование интересов юноши, был В. А. Приклонский – директор Дворянского училища, открытого в Твери в июне 1779 года при деятельном участии правителя наместничества. Любитель литературы, чьи прозаические переводы публиковались на страницах «Утреннего света», он в первую очередь был энтузиастом педагогики и много занимался нравственным и культурным развитием своих воспитанников.
22 ноября того же 1779 года Приклонский сообщал своему шурину Я. И. Булгакову важную для всего тверского общества новость:
Вчерась открылся у нас в училище театр, и я получил себе публичную благодарность как от начальника, так и от всея публики, коея было (разумея все благородных) 130 персон. Дети мои, без хвастовства сказать, играли очень хорошо, и что удивительнее, что все актеры мои такие, которые от роду ни театра не видывали, ни комедии не читывали. Между актерами был сын губернаторский и Лисанька81.
Лисанька – это девятилетняя дочь самого Приклонского Елизавета, а «сын губернаторский» – не кто иной, как Алексей Тутолмин82, вместе с которым какое-то время слушал уроки Иван Крылов. Выходил ли на сцену сам Иван, неизвестно (сведений о его учебе в Дворянском училище нет), но в этом театре он даже как зритель мог получить некоторое понятие о драматургии и театральном искусстве. В отличие от архаичных действ в семинарии, здесь давали пьесы известных современных авторов. Первой стала переделанная «на русские нравы» знаменитая в то время комедия Г. Э. Лессинга «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье»83.
С Приклонским как директором Дворянского училища оказалось связано еще одно важное начинание – попытка развить в Твери издательское дело и книжную торговлю.
Вчерась получили мы из Сената указ о заведении при училище типографии, на обыкновенных правах, но не зависящей ни от кого, т. е. ни от Университета, ни от Академии. Сказывают, что наместник берет в содержатели оныя Шнора, —
писал он Булгакову 8 ноября 1779 года84.
Речь идет о сенатском указе от 3 октября того же года, из которого следовало, что Сиверс выступил с инициативой открытия в Твери вольной (то есть частной) типографии:
<…> он, г. Сиверс, заведение сие почитает за весьма полезное как для казны, в рассуждении обнародования указов, так и для публики и вновь заведенного в Твери благородного училища и для имеющихся в том наместничестве 5-ти разных семинарий, в недавном времени заводимых85.
Иоганн Карл Шнор, к которому обратился наместник, незадолго до этого, в 1776 году, в партнерстве с И. Я. Вейтбрехтом основал и успешно эксплуатировал типографию в Петербурге. Он выдвинул ряд условий: власти будут платить ему за печатание указов; ему будет позволено «печатать и продавать календари»86, «русские книги» и «Тверской вестник наподобие Рижского Интелигенца»87, то есть региональную газету (первую в России!). Кроме того, он хотел завести книжную лавку для продажи изданий на разных языках. Однако экспансия в провинцию была делом рискованным: в Твери не было ни оборудования, ни материалов, ни опытных работников. И типографщик потребовал государственной поддержки – 1500 рублей беспроцентной ссуды на пять лет и бесплатное помещение в городе на тот же срок.
В истории тверского просвещения собственная типография и книжная лавка должны были открыть новую страницу. Местные переводчики, проповедники, писатели и стихотворцы получили бы возможность издавать свои произведения; газета проникала бы как в дворянские, так и в купеческие дома, а за ней последовала бы словесность – так количество читателей выросло бы не в одной Тверской, но и в прилегающих губерниях. Со временем можно было бы задуматься и о журнале, подобном, например, «Санкт-Петербургскому вестнику», который издавался иждивением книгопродавца Вейтбрехта и печатался в их общей со Шнором типографии. Правительственные указы, новости, «разные мелкие сочинения для полезного и приятного чтения», стихи, критика и рецензии на новые книги – все, чем наполнялся «Санкт-Петербургский вестник», было бы востребовано и в Твери. Газете и журналу понадобились бы постоянные сотрудники, типографии – корректоры… Тверь получила бы шанс превратиться в один из центров развития литературы, а просвещенные тверитяне – возможность найти приложение своим талантам. Среди них, весьма возможно, был бы Иван Крылов.
Впрочем, Приклонский радовался преждевременно: всему этому не суждено было сбыться88. Сенат, дозволив создание в Твери вольной типографии, в ссуде отказал. Однако сенатская «привилегия» даже в таком виде выглядела заманчиво. Шнор попытался ассоциироваться с другим петербургским коллегой – начинающим типографщиком Бернгардом Теодором Брейткопфом, сыном известнейшего европейского нотоиздателя. Расчет тут был на финансовую поддержку Брейткопфа-старшего. Сам же этот альянс строился, скорее всего, не без ведома Сиверса, который лично знал молодого Брейткопфа и сдавал ему в аренду свою бумажную фабрику. Однако дела у того шли не блестяще – и хотя Шнор выкупил его долги, в марте 1782 года сын по совету отца все-таки прервал эти деловые отношения89. Заводить же типографию в Твери на свой страх и риск Шнор не решился.
3
Переезд в Петербург. – Новые покровители. – Первый опус
В середине 1781 года наместником вместо Сиверса стал Я. А. Брюс, но до Твери он добрался нескоро. Всю первую половину 1782 года его замещал П. С. Потемкин, тот самый «меценат», который в свое время хлопотал за А. П. Крылова перед Военной коллегией. У вдовы и детей, таким образом, появился в Твери еще один «милостивец», однако их будущее от этого не стало выглядеть менее удручающим. Ивана в лучшем случае ожидала судьба мелкого чиновника, Льву предстояло расти в бедности. И Мария Алексеевна отважилась на решительный шаг – бросить незавидную службу старшего сына и искать счастья в Петербурге.
Пойти на это можно было лишь в надежде на нового, теперь уже столичного покровителя. Им стал бригадир С. И. Маврин, знавший и ценивший А. П. Крылова по секретной комиссии по расследованию действий пугачевцев, которая работала в Яицком городке во второй половине 1774 года90. В мае 1782 года Маврин занял должность вице-губернатора и председателя Санкт-Петербургской губернской казенной палаты. А 27 июля того же года тринадцатилетний подканцелярист Иван Крылов, испросив в своем присутствии отпуск на двадцать девять дней, отправился в Петербург.
Из отпуска он не вернулся: фактически это был побег со службы. Но пока правителем наместничества оставался Тутолмин, начальство смотрело на происходящее сквозь пальцы. Ивана хватились только спустя девять месяцев, в начале апреля 1783 года, когда Тутолмин уже был назначен губернатором в Екатеринослав. Беглецу грозило принудительное возвращение в Тверь91 и взыскание, от чего он был избавлен, по-видимому, благодаря заступничеству Маврина. Историю с самовольным отъездом удалось замять, и настолько успешно, что указом Тверского наместнического правления от 23 августа Иван Крылов был даже награжден «за беспорочную службу» чином канцеляриста92. В сентябре того же 1783 года он был официально определен в возглавляемую Мавриным Санкт-Петербургскую казенную палату и уже в ноябре на новом месте получил свой первый классный чин – причем не XIV, а сразу XIII класса, став провинциальным секретарем.
Весьма скромное для столицы жалованье – 90 рублей ассигнациями в год93 – первый точно известный нам денежный доход будущего баснописца. При этом на его попечении находились мать и брат; не забудем, что петербургская жизнь была дороже тверской, так что молодому человеку волей-неволей пришлось думать о дополнительном заработке. Его источником могло бы стать, например, переписывание чужих рукописей или нот, но он выбрал другой путь, куда более рискованный, зато в случае успеха суливший и деньги, и славу.
Первая попытка Крылова заработать на своем сочинении традиционно датируется 1784 годом94. Эту историю излагают два автора – М. Е. Лобанов, хорошо знавший обоих ее действующих лиц, и Е. А. Карлгоф, которая расспрашивала уже пожилого баснописца. Их версии в целом совпадают: юный Крылов, написав комическую оперу «Кофейница», явился к уже известному нам Брейткопфу, издателю и композитору-любителю, с просьбой положить ее на музыку, то есть пригласил его в соавторы. Брейткопф же почему-то решил выкупить рукопись никому не известного сочинителя и предложил за нее 60 рублей, но Крылов предпочел взять плату книгами – произведениями Мольера, Расина и Буало на ту же сумму. Хода «Кофейнице» щедрый издатель, однако, так и не дал. Много лет спустя, в 1810‑х годах, когда они оказались коллегами по Публичной библиотеке, Брейткопф вернул баснописцу его рукопись95.
Многое в этом рассказе вызывает сомнения – и неимоверный гонорар, составлявший две трети годового жалованья молодого автора, и его стоический отказ от денег ради книг, и рафинированный подбор французских классиков. Удивляет и проницательность Брейткопфа, сразу распознавшего будущий великий талант, и то, что позднее он так легко расстался с рукописью, которую в свое время приобрел и которая теперь, когда Крылов прославился, уже представляла коллекционную ценность.
Учитывая, что баснописцу было свойственно использовать рассказы о своем прошлом как инструмент формирования персонального мифа, заметим, что в реальности все могло происходить совсем иначе. Получил ли пятнадцатилетний сочинитель вообще хоть что-нибудь за свой труд? Неизвестно. Возможно, он просто оставил «Кофейницу» издателю под обещание превратить ее в оперу и ушел несолоно хлебавши. В этом случае возвращение рукописи выглядит как запоздалая попытка Брейткопфа загладить нанесенную им обиду. Крылов же, самолюбивый и амбициозный, историю своей юношеской неудачи превращает в рассказ о феноменальном успехе, который якобы сопутствовал ему с первых же шагов на литературном поприще.
Несомненно здесь одно – у Брейткопфа Крылов действительно побывал. Но почему из всех петербургских композиторов он выбрал именно его? Похоже, что двери этого дома открылись перед юношей по чьей-то рекомендации. Тут стоит вспомнить о Шноре и его намерениях завести, в партнерстве с Брейткопфом, типографию в Твери. Шнор в наибольшей степени подходит на роль человека, который оказал Крылову услугу из услуг – стал для него связующим звеном между тверским обществом, где его знали, и неведомым культурным миром столицы. В таком случае он должен был числить Шнора среди первейших своих благодетелей. Косвенное подтверждение этому можно усмотреть в факте, до сих пор не получавшем интерпретации: шестьдесят лет спустя Крылов подарит книгу своих басен некоему Петру Андреевичу Шнору (вероятно, родственнику издателя), а вскоре этот человек будет и в числе приглашенных на похороны баснописца96.
4
Театр и знакомство с Дмитревским. – Соймонов. – Конфликт с Княжниным. – Фиаско
Что касается служебных перспектив, которые открывались перед молодым Крыловым в Петербурге, то их трудно было назвать радужными. Маврин уже в декабре 1783 года покинул свой пост, перейдя в Военную коллегию. Возможно, он и в новом качестве продолжал поддерживать семейство Крыловых: во всяком случае, в 1786 году младший из братьев, десятилетний Лев, оказался записан фурьером в лейб-гвардии Измайловский полк97. Ивану же, оставшемуся в Казенной палате, предстояли годы унылых, однообразных занятий и мучительно медленного продвижения по службе при заведомо скудном жалованье – в точности как в Твери.
Совсем другое будущее сулил ему театр, «средоточие литературной жизни» тех лет98. На этом поприще он мог рассчитывать на быстрый и яркий взлет, а гонорары плодовитого драматурга, чьи произведения с успехом шли на сцене, существенно превышали жалованье мелкого чиновника. Неудача с комической оперой не обескуражила молодого человека, и он принялся за более масштабное сочинение.
В канонической версии биографии Крылова – она, напомним, базируется на его собственных рассказах, записанных современниками, – фигурирует трагедия в стихах «Клеопатра». В 1785 или 1786 году он якобы явился с нею к знаменитому актеру и театральному деятелю И. А. Дмитревскому – так же, как до этого являлся с «Кофейницей» к Брейткопфу. Эта вторая попытка литературного дебюта оказалась едва ли не более неудачной, чем первая: сведущий в драматургии Дмитревский «Клеопатру» отверг. Однако в процессе ее досконального разбора критик и автор сдружились, чему не помешала 35-летняя разница в возрасте. Провал, следовательно, вновь оборачивается признанием, которое еще неумелый сочинитель получает как бы авансом99.
Оставляя в стороне крайне запутанную историю самой «Клеопатры»100, отметим, что во второй половине 1780‑х годов между Крыловым и Дмитревским действительно сложились дружеские отношения, которые затем переросли в коммерческое партнерство. Дмитревский ввел молодого человека в театральный мир Петербурга – но кто ввел его к самому Дмитревскому101? Крыловский миф изображает их знакомство как инициативу дерзкого и уверенного в себе юноши, однако и тут свою роль мог сыграть посредник – возможно, тот же типографщик Шнор. Во всяком случае, в 1783 году именно у него вышло первое издание комедии Фонвизина «Недоросль», премьера которой состоялась в бенефис Дмитревского 14 сентября 1782-го.
Театральные знакомства оказались для Ивана Крылова полезными еще в одном отношении – позволили ему найти себе уже не просто высокопоставленного покровителя, а настоящего патрона. Им стал П. А. Соймонов, член Комитета для управления зрелищами и музыкой. В его ведении находились придворные театры, именно в это время ставшие доступными широкой публике. Кроме того, он как статс-секретарь императрицы управлял Экспедицией по Колывано-Воскресенским горным заводам Кабинета ее величества. С этим явно связан переход Крылова весной 1787 года на службу в Горную экспедицию102. Ни в чине, ни, скорее всего, в жалованье он не выигрывал, но к тому времени служба уже и не рассматривалась им в качестве основного занятия. Театральное дело в Петербурге переживало подъем, требовались новые пьесы, новые авторы, и Соймонов поощрял драматические опыты подчиненных – в сущности, своих клиентов. Годом позже под его начало поступит еще один молодой драматург, Александр Клушин103, ближайший друг Крылова этих лет: он займет место в Комиссии о дорогах в государстве, членом которой также был Соймонов.
Однако работа для театра у Крылова не задалась. Так, за выполненный по поручению патрона перевод французской комической оперы L’ Infante de Zamora (либретто Н.‑Э. Фрамери на музыку Дж. Паизиелло) он рассчитывал получить 250 рублей104, но единственным вознаграждением стал бесплатный доступ в театр. Перевод же сцены не увидел, как и оригинальная комическая опера Крылова «Бешеная семья», к которой уже была сочинена музыка105.
В попытке избавиться от складывающейся на глазах репутации неудачника юноша идет ва-банк – пытается обратить на себя внимание, атакуя общепризнанный литературный авторитет. В конце 1787 – начале 1788 года он пишет комедию «Проказники», где жестоко высмеивает знаменитого драматурга Я. Б. Княжнина. В такой стратегии не было ничего необычного; начинающие авторы и до, и после Крылова применяли ее, сражаясь за место под солнцем106. Ту же логику литературной борьбы видят здесь М. А. и Я. А. Гордины, интерпретируя «Проказников» в контексте затяжного конфликта между Княжниным и его друзьями, с одной стороны, и писателями круга Н. П. Николева – с другой107. Специфика этой эскапады, однако, состояла в том, что в комедии была чувствительно задета семейная жизнь Княжнина и особенно его супруга.
«Проказники» едва не стали первым успехом Крылова. Он, вероятно, рассчитывал, что события будут развиваться по канонам литературной войны: публика узнает, в кого метит комедия, и станет со смехом обсуждать выходку молодого автора, со стороны Княжнина последует ответ в виде эпиграммы, сатиры или даже целой комедии, направленной против обидчика; все это сделает имя Ивана Крылова известным, и сам он как публичный оппонент Княжнина наконец займет достойное место в петербургском литературном сообществе. Комедия уже была одобрена к постановке на императорской сцене, однако Княжнин отреагировал совершенно иначе – переведя конфликт из литературной плоскости в административную. Он пожаловался Соймонову, и тот не только запретил «Проказников», но и по-начальнически наказал Крылова, лишив его недавно полученной маленькой привилегии.
Достоинство молодого человека было уязвлено: за ним не признали прав писателя и обошлись с ним как с проштрафившимся мелким чиновником. Служить под началом Соймонова стало невыносимо; в мае 1788 года Крылов подал прошение об отставке из Горной экспедиции – и был еще раз наказан все в той же административной логике. Его не только не произвели в чин губернского секретаря (XII класс), на который он имел право по выслуге лет, но и внесли в аттестат, выданный при увольнении, нарочито туманную формулировку:
Кабинета его императорского величества из горной экспедиции бывшему во оной провинциальному секретарю Ивану Крылову в том, что он, Крылов, в сию экспедицию в число канцелярских служителей [sic!] вступил 1‑го числа мая 1787 года, а сего месяца 6‑го числа по прошению его за болезнию от дел уволен108.
Крылов, напомним, определился к Соймонову вовсе не канцелярским служителем, а провинциальным секретарем, то есть уже в классном чине, полученном в ноябре 1783 года. Из текста аттестата же напрашивается вывод, что чин получен только при отставке. Это лишало строптивого юношу четырех с половиной лет выслуги. С таким аттестатом на новом месте службы ему пришлось бы начинать все сначала.
Таким образом, он был возвращен в то же состояние социального ничтожества, из которого только начал выбираться. Его ответом стали крайне дерзкие памфлеты в форме писем к Княжнину и Соймонову, написанные во второй половине 1788 – начале 1789 года109. В них он намекал даже на готовность отстаивать свою честь с оружием в руках, как подобает дворянину. Вряд ли они были доставлены адресатам, зато читались в обществе.
В сущности, в том, как с ним поступили, по русским меркам не было ничего особенно унизительного, но Крылов резко поднимает ставки. Он разыгрывает свою ситуацию в декорациях истории оскорбления, которое в 1726 году шевалье Ги-Огюст де Роган-Шабо нанес 32-летнему Вольтеру – тогда уже известному писателю. Конфликт начался с того, что на пренебрежительный вопрос Рогана: «Что это за юнец тут ораторствует?» – Вольтер ответил: «Тот, кто не влачит тяжесть великого имени, но заставляет уважать то имя, которое носит»110. Спесивый аристократ, обидевшись, приказал слугам отколотить автора «Генриады» палками, как какого-то простолюдина. На это показательное унижение Вольтер ответил вызовом на дуэль, но Роган не дал ему возможности восстановить свою честь. Вместо поединка он добился, чтобы его противника заключили в Бастилию. Все закончилось скорым освобождением писателя и его отъездом в Англию, но именно эта история стала импульсом к превращению Вольтера в самого яркого критика сословного неравенства, чьи памфлеты в предреволюционной Европе стали символом борьбы за человеческое достоинство.
Рассказ о столкновении с шевалье де Роганом был опубликован в 1786 году в книге аббата Дюверне «Жизнь Вольтера», вышедшей в Женеве. Можно не сомневаться, что вскоре ее читали в Петербурге, и особенно в кругу русских поклонников Вольтера, если не как мыслителя, то как писателя. К ним принадлежал, в частности, и Княжнин, переводчик «Генриады». Письма-памфлеты Крылова были рассчитаны на внимание людей, которые в неравной борьбе двадцатилетнего штаб-офицерского сына и начинающего драматурга с сильными мира сего должны были увидеть отблеск великого конфликта, составлявшего нерв эпохи111.
Судя по тому, что эти тексты распространялись в списках, у Крылова нашлись сочувствующие, однако на его судьбу это никак не повлияло. Сильные, одним щелчком сбросив его вниз по служебной лестнице, больше не обращали на него внимания.
Иван Крылов разом потерял все: и патрона, и выслугу, и небольшой, но верный заработок чиновника, и всякую надежду на карьеру драматурга. Между тем примерно в это время умерла его мать112; Лев, еще подросток, не мог содержать себя сам, так что заботы о нем легли на старшего брата. В итоге вся эта история оказалась для Крылова настолько травматичной, что даже много лет спустя, рассказывая ее, он подправлял сюжет так, чтобы предстать жертвой чужой несправедливости. В его освещении «Проказники» оказывались местью талантливого юноши за ранее нанесенное ему оскорбление, причем в роли обидчика выступал даже не сам Княжнин, а его жена – что задним числом должно было оправдывать нападки на нее113.
Наиболее полно эту версию излагает Н. И. Греч. Мастерски выстроенный диалог и афористичность финальной реплики наводят на мысль о том, что сам баснописец пересказал ему весь давнишний эпизод уже в виде готового анекдота:
«Что вы получили, – спросила однажды эта барыня у Крылова, – за ваши переводы?» – «Мне дали свободный вход в партер». – «А сколько раз вы пользовались этим правом?» – «Да раз пять». – «Дешево же! Нашелся писатель за пять рублей!»114
Молодой человек, судя по формулировке «за болезнию», планировал не просто уйти от Соймонова в другое ведомство, а – по крайней мере на какое-то время – вообще отказаться от службы, продолжая заниматься литературой115. Это был весьма смелый, если не безрассудный шаг, учитывая, что для него оставались открытыми лишь те сферы, куда не распространялось влияние его врагов. Конечно, его мог вдохновлять пример Н. И. Новикова: тот тоже оставил службу и, посвятив себя журналистской и издательской деятельности, прославился и совершил на этом поле настоящую революцию. Однако Новиков вышел в отставку двадцати пяти лет в чине поручика, вполне достойном для дворянина; к тому же его состояния в принципе хватало для того, чтобы, не служа, жить безбедно. Возможности девятнадцатилетнего отставного провинциального секретаря Ивана Крылова были несопоставимо скромнее, а значит, и риск – больше.






