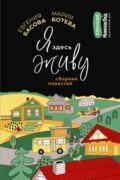Евгения Басова
Счастливцы
3
Про ботинки он вспомнил, только учась в университете. В общежитии студенты читали и передавали друг другу плохо изданную, на скверной бумаге, истрёпанную книгу, написанную так сложно, что Курносов, бывало, засыпал, не осилив и двух абзацев. При этом товарищи его, как он видел, были умнее и терпеливей его, они легко отзывались о прочитанном, по большей части отпуская краткое: «Сильно сказано!» – и хвалили автора: «Как угадал, какое предвидение…»
Костя Курносов силился и кое-как продвигался вперёд по книге. В ней говорилось о том, о чём он всегда подозревал: что рядом с его жизнью, в которой он ходил в школу и теперь ходит в университет и больше всего боится прослыть тугодумом, существует какая-то ещё жизнь, где ему, Косте, отведена другая, неизвестная никому здесь роль. И он там после лекций не собирал посуду с грязных столов кафе и не раздавал рекламные листовки на улице, а делал уж точно что-то другое, только нельзя было понять что. И, например, его мама, краснолицая, в висевшей из-под халата ночной рубашке, кричавшая ему: «Посмотри на себя!», была не единственной его мамой во Вселенной. Где-то, в каких-то воздушных мирах, продолжала жить его тоненькая, красивая мама, которая могла кружиться по комнате и говорить «мы с тобой».
Надо было как-то настроиться и прочитать сложную книгу до конца. Это был последний его вечер с книгой, последняя ночь. Завтра надо было принести книгу в университет и отдать одному парню, не общежитскому, – у того уже давно подошла очередь, а дальше ждал кто-то ещё.
Костя лежал в кровати на животе, уткнувши глаза в книгу, – то, о чём было написано в ней, ему было остро интересно, и в то же время авторская манера письма не давала ему читать дальше и понимать прочитанное. Костя боялся, что друзьям станет известно, что он глуп, – он осознавал себя сейчас очень глупым. Читать было отчего-то трудней, чем готовиться к любому экзамену. Косте легко давались естественные науки. В них важно было понимать, что из чего вытекает, видеть любой предмет в целом – и тогда легко и быстро можно было вывести самому какую-нибудь забытую формулу. А готовясь к экзаменам из гуманитарного цикла, он вот так же ложился на живот и клал книгу перед глазами – и впитывал, втискивал в себя то, о чём говорилось в ней. На следующий день он видел вопрос в вытащенном билете – и в памяти сразу возникало нужное, прочитанное: выходило, что он хорошо помнит именно этот вопрос среди всего остального. Ненужного же ему на экзамене сейчас уже не существовало, точно вчера он не читал о нём. И он никогда не спрашивал себя после экзамена, помнит ли он то, что ему пришлось отвечать. Это никогда не было важно.
Книгу, которую ему дали ненадолго, в очередь, не получалось читать как учебник. Он понимал уже, что не осилит её: он не осилил её за все дни, что она была у него! Костя безнадёжно листал густо испечатанные, в две колонки, неудобно большие страницы, от мелкого шрифта у него рябило в глазах. Где-то на отдалённых от начала страницах в книге появлялись герои, о которых он смог бы читать, но автор, рассказывая о них, ссылался на что-то неизвестное Косте, о чём говорил сначала. Там и здесь он называл миры, в которых жили его герои; миров было, казалось, бесконечное множество, и сквозь описания их у Кости не было сил продраться.
И вдруг он наткнулся на странный мир, в котором жили сломанные, выброшенные, исчезнувшие когда-либо детские игрушки. Но не все, а только те, которые любил кто-то в своём детстве. Любовь в дальних мирах становится чем-то, что можно потрогать, взять в руки – и вот уже нет облупившейся краски, потрескавшегося дерева или пластмассы, протёртого до дыр плюша. Оторванные руки и лапы странным образом возвращаются, находятся и усаживаются каждая на своё место потерянные пуговицы-глаза.
Костя вспомнил ботинки в комиссионке. И сразу стало понятно, почему ему так хотелось их и почему он тянулся к девочке, носившей эти ботинки, и был уверен, что она – друг и рада ему. Кто-то неизвестный любил эти ботинки – первый хозяин, который из них вырос, или его мама, тоже говорившая ему (мальчику или девочке?) «мы с тобой» и кружившаяся по комнате? А когда ботинки стали малы, она подумала о том ребёнке, которому купят их: они добротные, и в них хорошо бегать! Может быть, их привезли издалека, ведь в стране был кризис, а может, какой-нибудь старый сапожник сделал их сам, радуясь хорошему заказу и тому, что он умеет то, что не умеют люди вокруг, и что его умение нужно кому-то. Ботинки были точно окружены невидимым облаком, и Костя ведь не один это почувствовал. Когда он спросил про них, продавщица их сразу вспомнила – и улыбнулась.
Тут же он вспомнил, что друзья в тот день пришли в магазин, потому что ему нельзя было к дереву. Дерево теперь виделось ему ещё одним миром – из тех, о которых говорилось в книге. Он вспомнил, как у пустого гнезда слышал птенцов – и тревожные вскрики взрослых птиц. Звуки сохранились где-то рядом после того, как хозяева гнезда улетели.
Костя во сне снова шёл по дереву вверх. Неужели его подсадили друзья – Стасик, Валик и Шура? Костя знал, что Валик погиб в армии, когда его послали на маленькую, локальную, как это называлось, войну, мама написала ему, а про Шуру и Стасика он очень давно не слышал. Но все были здесь и ждали его внизу, Костя пробирался сквозь близко растущие ветки. Над гнездом, как прежде, слышались птичьи крики. Костя не стал брать гнездо, а, подняв руки, отодвинул ветки вокруг. Там и впрямь был другой мир, подросшие птенчики перелетали с ветки на ветку, а мать с отцом радовались, глядя на них; солнце тянуло к нему лучи и гладило его по щекам так нежно, как не бывает. Костя задохнулся от ожидания: что он увидит здесь, кого встретит? Он легко, не держась и не опасаясь упасть, шёл по веткам – вдруг это стало удобно, и абсолютное счастье охватило его.
В этом счастье его потряс за плечо сосед Вася. Студентам не хватало времени на сон, и многие по утрам не слышали самых громких будильников. Поэтому между соседями была договорённость: встал сам с кровати – разбуди и соседей.
Костя взял с собой книгу и передал парню, который её ждал. При этом Костя выдавил из себя: «Сильно, да!» Ему было стыдно: другие смогли прочитать, а он – нет.
* * *
Костя полюбил книги, в которых герои перемещались в другие миры – через внезапно обнаруженную дверцу в задней стене шкафа, или нажав на кнопку в непонятном устройстве, или только заснув. Одно время он читал даже совсем детские книжки, написанные для маленьких, и ему казалось, что он сам маленький и живёт с мамой в районе новых безликих домов, где на всю округу осталось единственное дерево, на которое можно влезть.
– Покажи, – сосед Вася тянулся за его книжкой с картинками.
Костя смущался, путано объяснял, что в той редкой книге, которую все читали по очереди, говорилось про такие миры: что мы живём только в одном и видим только его, а на самом деле их много, они соседствуют.
– Понял! – отвечал Вася. – И я в тех мирах отличник. Почётный стипендиат.
* * *
Перед практикой, летом, Костя приехал домой, и ему всё время хотелось быстрее уехать назад. Маму он увидел похудевшей за год, с лицом, как будто просвечивавшим желтизной и зеленью, от носа к уголкам губ тянулись глубокие морщины.
Бывшая детская комната стала единоличным царством сестры, приторно-розовые зайцы таращились на входящих с дивана и с тумбочки. На столе россыпью лежали какие-то бусины и ещё разные мелочи, может быть, для волос или серьги.
Люся взглянула на него, не притворяясь, что рада, и не скрывая досады, что с приездом брата придётся потесниться. Ей было девять лет, Костя не знал, про что говорить с ней, и с отчимом про что – тоже не знал. Дядя Гена как будто не поменялся, только стал шире, и он глядел на Костю с той же неловкостью, что и в детстве, и на его «Здравствуйте!» ответил: «Привет, мужик!», стараясь, чтоб вышло развязно, а получилось жалко.
Дерево сохранилось. Костя подпрыгнул, схватился за нижнюю ветку, подтянулся – и вот уже он идёт вверх, как в детстве, перед четвёртым классом, и поражается, как же громко шумят листья. Сквозь этот шум ему слышны крики птиц: «Чужак у гнезда!»
Сейчас июнь, и они высиживают птенчиков! «Я же не могу взять гнездо», – мысленно говорит Костя Валику и спохватывается, вспоминая, что друзья больше не ждут его внизу. Но почему ему в это не верится? Костя чётко знает: его ждут. Он смотрит сквозь ветки вниз – три непонятных силуэта! Он думает: «А они дети или тоже – уже как я?» – и хочет разглядеть их получше. И тогда они пропадают. Конечно, их нет, откуда им быть здесь, а Валика нет совсем.
* * *
Косте казалось, что именно тогда он и сделал своё открытие. По крайней мере, сделал к нему первый шаг. Хотя нет же, он прожил ещё два дня у мамы и отчима и с чистым сердцем, счастливый, что уезжает, объявил им: «Начинается практика!»
В поезде, пока он ехал в университет, в нём росло беспокойство, он чувствовал себя так, точно где-то внутри у него, может, в памяти, раскрылась дыра и её нельзя было заслонить ничем. «Мама болеет, – беспомощно думал Костя. – Она похудела, а я сразу не понял: это она болеет».
Парней приставили на работе к станкам. Низкий, крепко сбитый человек-колобок, по всему видно – силач, объявил, что им предстоит почувствовать жизнь, и, глядя на парней снизу вверх, мстительно-радостно ухмыльнулся.
Костя был поражён однообразием работы штамповщика. «Все так живут, – растерянно думал он. – Много-много людей живёт вот так». Он сотни раз слышал, что кто-то работает на заводе. Значит, возможно, работает – так, как он сейчас? Его отчим, дядя Гена, тоже стоит за станком в цехе… «Я совсем не знаю, как живёт дядя Гена», – думал Костя. Нажимать раз за разом один и тот же рычаг, заранее подложив под пресс новую заготовку, было невообразимо скучно. Не верилось, что пройдут часы, день сменится вечером, а ты будешь выполнять и выполнять простые движения. В механическом цеховом шуме люди не слышали друг друга, даже если работали за соседними станками. Шум проникал в руки, в голову, в живот, смешивался со всеми соками тела, тёк по крови. Костя чувствовал, как растворяется в шуме. Он быстро сдался и перестал сопротивляться, смирился и перестал замечать движения своего тела. Всё, что требовалось от него, – проделывать и проделывать эти движения: наклоняться, брать заготовку… В шуме ему теперь смутно слышалась музыка, но он не мог уловить мелодию. Временами он слышал голоса. Мама, измождённая больше, чем в реальности, жаловалась на что-то ему. Лена Сомова, однокурсница, которая слегка нравилась ему, говорила с ним необычайно ласково и тянула губки, чтобы поцеловать его.
Позвали обедать. Костя остановил станок, и через полчаса было странно, что ты должен возвращаться и включать его, чтобы твоё тело продолжило делать простые движения – те, которых от тебя требует машина. Никому не важно было, каково в это время тебе самому, что делаешь ты сам – о чём думаешь, куда уносятся твои мысли, пока тело: раз-два-три, раз-два-три… Костя смотрел на своих однокурсников – притихших, ошеломлённых тем новым, что они испытали сегодня. Впереди было ещё полдня, и потом ещё день и ещё целый месяц практики. «Зачем мы учимся и сдаём экзамены? – думал Костя. – Зачем вообще здесь уметь читать и писать?» Зачем люди вокруг него когда-то ходили в школу и от них требовали хороших оценок?
* * *
Через два дня студентам объявили, что в цех штамповки их направили по ошибке. Костя попал теперь в конструкторское бюро. Там можно было слушать, про что говорят люди, и можно было расспрашивать их. «Ты приставай, приставай к нашим, – сказал Косте начальник отдела, – это и тебе полезно, и им тоже, чтобы не забывали, над чем работают. Мне-то за всеми не уследить».
И как только он ушёл в свой кабинет-закуток, из-за одного компьютера раздалось:
– А парень сгоняет у нас за сигаретами, – без интонации, без зачина, точно говоривший продолжал какую-то начатую уже фразу.
Костя решил не слышать, пока не обратятся прямо к нему, – а там уже видно будет, что он скажет. В большом зале несколько человек говорили одновременно. Женский голос в углу щебетал:
– А вот пацанчик лежал с Ванечкой в палате, восемь лет, пацанчик… Без родителей был, восемь лет. Так всю дорогу рассказывал мне, как станет в космос летать. Мол, когда вырастет, все уже летать будут. «И вы, – говорит мне, – тётя Лена. Вы же ещё не умрёте, только старенькая будете! Но люди, – говорит, – научатся из старых делать опять молодых!» Слетают, мол, на другие планеты, а там уж гуманоиды научат и молодость возвращать, и все болезни лечить без уколов! А то сильно плакал он от уколов, болючие были, – и она невесело усмехнулась. – Уж я-то молчу, не говорю ему, что сама так думала в его годы: мол, когда вырасту, люди будут в космос летать, как на трамваях ездят!
– Да кто не думал, – неохотно ответила ей толстая женщина от соседнего столика. – Все в нашем поколении думали, ты одна, что ли?
Костя из общего разговора понял: у женщины, сидевшей в углу, сильно болел малыш, Ванечка, но уже всё позади. Ванечку выписали, и она снова пришла на работу. Ей не хочется вспоминать о тяжёлом, только что пережитом, но тянет рассказывать о людях, встреченных в больнице и сказавших ей что-то, чего она не слышит каждый день на заводе. И даже восьмилетнего соседа по палате ей не хочется забывать. Его она вспоминала чаще всего, повторяла:
– Пацанчик, восемь лет! Я, говорит, мол, сперва знаете на какую планету попрошусь? На Юпитер! Уж не знаю, зачем ему… А на Луне, или ещё, говорит, на Меркурии с Венерой, говорит, хорошо проводить олимпиады, с их силой тяжести даже вы, тётя Лена, сможете прыгать, как на Земле чемпионы, в длину и в высоту…
Она хмыкнула:
– Я уж проглотила это, не сказала, что мал ещё намекать, что мне худеть надо! Ведь «даже вы сможете» сказал! Я только ему: кто же там прыгать станет без воздуха? А он смотрит на меня как на дурочку. Человечество, мол, за двадцать лет решит эту проблему. Или новые скафандры будут у всех такие, что их не чувствуешь, или на планету напустят воздуха. Откуда же напустят, спрашиваю, а он: мол, не знаю, это учёные сделают. А то, может, говорит, я сам стану учёным. Это на кого, спрашивает, учиться надо? Я ему: «Физику учи, мол!» А что скажешь ещё? Учёба – не во вред, а вырастет – сам поймёт, что глупости говорил. И тут как обожгло меня: ведь сами такие были! В восемь лет было само собой, что взрослые всё придумают, и когда сам вырастешь – то хоть на Юпитер, хоть на Венеру лети, это как сейчас в автобусе ездишь…
Костя видел, что последние слова она говорила уже в пустоту: её сослуживцы узнали от неё, что её сын вылечился, и немного послушали про какого-то ещё мальчика, и согласились, что в восемь лет все были такие же глупые, как он. Но дальше слушать фантазии незнакомого мальчика им было неинтересно, и женщина сама чувствовала это, но ей неловко было оборвать рассказ на полуслове, хотя и говорить, когда не слушают, тоже было неловко. Она скомканно закончила:
– Вырастет мальчишка, сам над собой смеяться будет.
Ещё раз натужно хихикнула и углубилась наконец в свои бумаги, стала восстанавливать в памяти подзабытое за время болезни сына.
В бюро проектировали станки, в работе которых участие человека было бы минимальным. Костя спросил:
– С числовым управлением?
И ему ответили:
– Это для особо умных – с числовым управлением.
Человек должен будет опять выполнять самые простые движения. Такие, в которых ошибиться никак невозможно. И значит, станки не будут вырабатывать брака. И человек не сможет, например, случайно пораниться: всё в его движениях будет чётко продумано за него другими людьми.
«Хочет в космос, – подумал Костя про женщину в углу, – а сама проектирует эти станки. Чтобы – раз! – положил заготовку, раз – и отлетела деталь, и ты потом опять заготовку – раз!»
Уже знакомый голос, как прежде, без интонации, произнёс:
– Пацан, я смотрю, деньги так и лежат. Курить-то я когда буду?
Костя опять решил не отзываться.
Но женщина, лежавшая с Ванечкой в больнице, мягко сказала ему:
– Выскочи в магазин, вон там, через дорогу. Тебе-то что не выскочить? Это мы должны каждый раз, как выходим, записываться в журнале.
Костя взял деньги и вышел. Он думал: что-то определённо должно быть связано с космосом! Со световыми годами, с теорией относительности…
Нельзя сказать, что у него была сейчас каша в голове, – там у него был бурно кипящий суп или компот, и трудно было разглядеть, что именно выскакивает в бурлящей жидкости на поверхность, чтобы сразу скрыться опять в глубине. Костя доехал до общежития, стал листать не сданные ещё в библиотеку учебники, отбросил один, другой. Потянулся за книгами Юры, второго его соседа по комнате, – тот учился на два курса старше их с Васей, – стал что-то листать наугад и сразу же уткнулся в страницу, охнул, схватил тетрадь, записал одну формулу, другую – по привычке с конца, как пишешь что-то не относящееся к учёбе или рисуешь карикатуры на однокурсников. Он писал формулы, стараясь не наезжать на свои рисунки, потом вспомнил, что надо опять на завод. Несколько книг взял с собой, в рюкзак, подумав мельком, что как-нибудь потом объяснится с Юрой, и уже у заводской проходной вспомнил, что не купил сигареты. Пришлось идти в магазин через дорогу.
– Тебя только за смертью посылать, – сказал ему, принимая сдачу, отправлявший его инженер-конструктор.
«Не посылай больше», – хотел ответить Костя, но не стал. И так всё было понятно.
Он сел за выделенный ему столик и стал читать. Не то, всё не то, не так надо, думал он. В нём подни-малось беспокойство. Следующие дни он провёл за расчётами, формулами и часто только для вида клал перед собой учебник. В бюро посмеивались:
– Студент наш, видать, двоечник! На лето задание задали!
Никто не думал о том, на каком он курсе и на каком факультете, своим учебником загораживается от всех или не своим. Или не учебником вовсе – книгой из научной библиотеки, взятой для него соседом Юрой. В научку записывали только начиная с третьего курса.
Костя ни с кем на заводе не спорил. Ему было удобно, чтобы вокруг думали, что он готовится к пересдаче экзамена. Как бы иначе он объяснил в бюро, что делает? Он сам иногда спохватывался: что я делаю?! Он вертел известные всем формулы так и сяк, раскладывал их на части, что-то складывал и вычитал, бормоча: «А если мы вот так… А ещё можно так…» – и вдруг как будто просыпался: «Можно, да! Но зачем?» Он смотрел на исписанные страницы, строчки наезжали одна на другую. Только что он писал как в лихорадке, и за его действиями был огромный, захватывающий его полностью смысл. Но теперь кажется, что смысл – иллюзия… И в этом своём разочаровании он как сквозь пелену слышал:
– Эй, студент!
Оказалось, для административного корпуса привезли новые стулья и тумбочки. Практикантов собирали со всех отделов, чтобы они разгрузили машину. Костя всё ещё видел перед глазами формулы, раза два ему откуда-то издалека сказали: «Не спи!» и «Смотри, куда тащишь!» – словом, ему повезло, что он не уронил ни одной полочки и ни одного стула и никому не отдавил ног, а под вечер в своей комнате он понял, что помнит всё, что пришло в голову, пока разгружали мебель, – и поскорей записал в тетрадь. Казалось, он вот-вот нащупает что-то важное. А оно ускользало.
4
Сейчас он усмехается: знал бы он, сколько ещё времени самое главное ускользать будет!
Иногда он чувствует себя самозванцем. Сколько людей знают и теорию относительности, общую и специальную, и теорию хаоса гораздо лучше его! На Костином факультете всё это проходили обзорно, в одном только семестре, и всё – их, студентов, готовили в инженеры для того завода, где проходили практику, и для других заводов. Косте нужны были учебники ребят с факультета фундаментальных исследований. И на лекции к ним он убегал со своих лекций.
Преподаватель рассказывал на полном серьёзе, что да, возможны кроме нашего мира другие миры, – и тем самым подтверждал Костины догадки. Нет, конечно, догадки автора старой книги, давно умершего, и ещё многих людей. Он заметил Костю у себя на лекции с первого раза. Костя не ожидал этого: вон какая аудитория, и лица, лица снизу до потолка – можно ли помнить всех? Однако лектор только вошёл – худой, гибкий и юркий какой-то, в синем приталенном пиджачке, видно, франт, – улыбнулся всем, слегка поклонился – и сразу же его взгляд остановился на Косте.
«Сейчас скажет выйти!» – подумал Костя, но преподаватель снисходительно, благосклонно кивнул ему. А иначе Костя бы много нового не узнал вот так, быстро, и кто знает, когда бы он сделал своё открытие – сколько книг пришлось бы ему дополнительно перелопатить. А он и так много читал. И преподаватель в синем приталенном пиджачке как будто понимал, что Косте чрезвычайно важны его лекции. Скоро уже, взбегая на кафедру, он с любопытством оглядывал аудиторию. Найдя Костю, он, конечно, не кивал и не улыбался ему: преподаватель помнил о своём положении среди студентов! А то ведь бывало, бывало, что принимали его за ровесника! И даже, не узнавая вблизи, если был он без пиджачка, принимались при нём же и обсуждать его: мол, читает так, что его одного только и слушали бы, и предмет-то какой! Но пятёрку или хотя бы четыре получить на экзамене просто нереально, уж въедливый до чего! И времени ему не жалко – садишься к нему с билетом, а он начинает тебя по всему курсу гонять.
И это верно было: гонял он, гонял студентов по всей программе, и откровенно топил кого-нибудь на экзаменах, и чем нелепее были ответы на дополнительные вопросы, тем сильнее захлёстывала молодого лектора обида. Глядел он на какого-нибудь щекастого, крепкого парня и видел: тот только и думает, как спихнуть скорее экзамен и больше к его лекциям не возвращаться. Парню не до существования иных миров – он крепко, плотно обустроен в своём, одном-единственном мире. Ну разве что когда-нибудь, лысоватым, толстоватым, недовольным начальством и заработком человеком, нынешний студент вспомнит в компании таких же скучающих краснолицых людей: а был в институте у нас чудик один, говорил, что, мол, если хочешь в другом измерении оказаться, то это запросто!
Были, впрочем, и те, кого преподавателю удавалось увлечь своими лекциями, – эти немногие ходили в особый кружок, и Костя знал уже о его существовании. Как же ему хотелось туда попасть! И не ему одному. Время от времени преподавателя в приталенном пиджачке поджидали в коридоре по одному очень взрослые, все на подбор худощавые, неряшливо одетые люди; от кого-то из них плохо пахло, кто-то путался в слишком широких брюках, купленных, очевидно, в более благополучные времена. Люди говорили с лектором торопливо, заговорщицки: кому-то не терпелось показать ему открывшийся ход в другие миры, у кого-то с собой была машина, служившая для таких переходов, – корпусом мог выступать ящик из гофрированного картона с наклейками со всех сторон «Масло коровье», внутри ящика что-то гремело. Лектор слыхал про таких же поизносившихся, исхудавших людей, приносивших в университет модели вечных двигателей (те тоже могли быть упакованы в коробки из-под масла). Но вечные двигатели носили преподавателям с другой кафедры.
* * *
Костя не походил на состарившегося изобретателя. Молодой лектор уже знал: чем ближе подкрадывается к человеку старость, тем больше хочется ему обмануть бегущее время, переиграть его, выпрыгнуть из несущего всех людей потока – туда, где опять окажешься юным и, пользуясь уже нажитым опытом, станешь жить совершенно иначе, дорожа каждой минуткой – ни одной из них не просидишь на тоскливой работе, и, если домашние не понимают тебя и принуждают к тому, что тебе не хочется, ты уже ни дня не останешься с ними. Тебя теперь ждут путешествия, морской ветер освежит твои осунувшиеся в нашем мире черты лица, придаст тебе уверенности, и вот уже ты – больше не ты, тебе и очки не нужны, хотя ты носил их с детского сада, и мускулы, бицепсы-трицепсы, кажется, у тебя были всегда – их не могло не быть. Люди, годами морившие себя голодом, корпя над своими изобретениями, грезили о богатстве, о возможности не думать о деньгах, не оправдываться перед домашними за плохой заработок, не носить ставшие безобразно широкими брюки.
Костя был молод. Ему не надо было выпрыгивать из потока несущего его времени. Преподаватель мельком думал о том, что Косте наверняка нравится какая-нибудь девушка, а Костя ей – нет, и поток времени несёт его туда, где ему повезёт встретить взаимность, и тогда он не захочет больше думать ни о каких неизвестных мирах. Ну разве что о том, что если и впрямь возможно куда-то переместиться, то будет ли там она. Скоро, скоро Костя перестанет бегать со своих занятий на его лекции. А пока его присутствие в аудитории внушало лектору странное спокойствие. Костя видел, что, найдя его, чужого, преподаватель оживляется на секунду, отсвет улыбки мелькает в его глазах. Других изъяснений чувств молодой преподаватель не мог себе позволить: никакой фамильярности!
Лектор осознавал, что таких людей, как он сам, кем двигало бы обыкновенное любопытство, но только огромной силы, – не так уж много. И уж совсем немногие хотели бы покинуть мир, где родились, потому что потеряли надежду прожить в нём как хочется. В его кружке были те, кто хотел бы доставить из ниоткуда лекарство для отца или мамы – от тех болезней, которые в нашем мире пока не умели лечить, – или совсем фантазёры, мечтавшие вернуться в прошлое, чтобы забрать оттуда с собой любимого деда, пока тот был жив, и были те, кому в нашем мире многое было недоступно по причине слабого здоровья. Двое в его кружке передвигались на колясках. Был краснощёкий спортсмен-гиревик Дима, помешанный на инопланетянах, – точно ничего нет в жизни важнее межпланетных контактов, а мы, земляне, не понимаем своей общей беды: гуманоиды не хотят с нами общаться, потому что мы для них недостаточно развиты, и вместо того чтобы подтянуться по части научных открытий и общей образованности жителей планеты, мы всю свою историю занимаемся не тем, не тем, не тем! Друзья постоянно осаживали его:
– Дима, пускай инопланетяне думают как хотят, а мы уж себя принижать не будем!
И оглядывались на руководителя кружка, молодого лектора, который был с ними совершенно согласен, но при этом и Дима, ожидающий гуманоидов, и все остальные казались ему ещё маленькими, детьми, и он не был уверен, стоит ли высказывать им все свои мысли, показывать все подсчёты, все выведенные формулы. Тем более что, когда он открывал какую-нибудь свою старую тетрадку и пытался припомнить, как сделал то или другое умозаключение, он часто находил у себя ошибки.
Всё чаще он вспоминал чудака, бывавшего у него на лекциях, – тот почему-то казался ему взрослее его студентов, и молодой лектор уже представлял, как они с этим парнем вдвоём перепроверяют его записи… А ведь у парня тоже могут оказаться какие-то наработки!
И когда Костя наконец-то решился подойти к лектору в коридоре, тот улыбнулся ему от уха до уха и, не слушая сбивчивых объяснений, спросил:
– У тебя сегодня сколько пар – там, где ты учишься? Кафешку «Семёрка» знаешь, напротив теннисного корта? Жду тебя в три часа, тетрадь не забудь!
Костя остался в полной растерянности. Кое-как отсидел он на своём факультете оставшиеся три пары.
В «Семёрке» длинный стол стоял вдоль окна, многим нравилось пить кофе и в это время смотреть: кто пройдёт по дорожке среди яблонь, с кем, в чём. Это было место студентов, но лектор чувствовал себя здесь, на первом этаже, свободнее, чем на втором, в зале для преподавателей. Занять два свободных стула в углу не удалось, и теперь справа от лектора девочка трещала про то, как ей красили волосы в парикмахерской, слева от Кости парни обсуждали какой-то концерт. Но это было и хорошо. Косте с лектором тоже не надо было стараться говорить тихо, они толкали друг друга и обзывали дураками, кричали:
– Ты что, не видишь: ты здесь результат написал какой тебе надо, а не какой есть!
Костя не мог вспомнить, когда он чувствовал себя так свободно. Это было чудом – не объяснять человеку рядом: «Ты понимаешь… Я вот подумал, я читал книжку…» Его собеседника, так же как и его самого, вели любопытство, жажда узнать, как там, в других мирах, – и можно было не бояться, что он спросит у тебя: «Слушай, зачем тебе это? Делать нечего?» Оба наслаждались свободой и взаимопониманием, и оба были совершенно уверены в успехе.
– Человечество получит то, что оно заслуживает! – говорил Косте преподаватель. – У нас должна быть возможность бывать там, где раньше не были!
– А как ты думаешь, скоро? – спрашивал Костя, уже называя его на «ты».
Они исчеркали до обложки одну тетрадь, начали вторую. Их соседи сменялись, кто-то над ухом сказал, что кафетерий закрывается. Лектор в это время проводил под формулами длинную линию, чуть ли не разрывая бумагу.
– Да-да, выходим, – с неохотой сказал он кому-то у них над головой, и Костя увидел вдруг, что они уже на улице.
* * *
Он как будто вынырнул откуда-то на поверхность и теперь не понимал, где оказался. Никогда раньше он не был на задворках «Семёрки», под яблонями у забора, никогда ему не было нужно забираться сюда. Но сейчас с ними была масса людей, и далеко не одни студенты – много пожилых, при этом совсем не похожих на преподавателей. Это была очередь за чем-то простым, что всем было нужно, – как в Костином детстве стояли очереди за молоком. Но сейчас очередь отчего-то сбилась, смешалась. Люди тревожно переговаривались, кто-то смотрел вверх; одна женщина притянула к себе девочку, ткнула лицом в свой толстый живот:
– Не смотри!
Костя глянул на небо. Оно было светлым, как будто ещё не наступил вечер, хотя день был скорей пасмурным, солнце едва проглядывало сквозь тучи. Одна из туч вытягивалась на глазах извилистой линией, и скоро уже казалось, что по небу протекает река. Да это и была река, и не было ничего удивительного в том, что она протянулась через всё небо. На глазах становилась яснее видна структура берегов. Они были усыпаны крупным камнем. Каменные гряды по обеим сторонам реки росли и росли, всё появлялись и появлялись новые, остроконечные, не облизанные водой, не скруглённые булыжники. И было ясно: когда их станет слишком много, они посыплются вниз.
– Доигрались! – сказал неряшливо одетый старик рядом с Костей.
– Кто доигрался? – едва шевеля губами, спросил Костя.
– Мы все, люди, – проскрипел старик. – Слишком долго мы делали это сами с собой. Сами устраивали друг дружке, чтоб сверху на города сыпались камни! И кто-то там, – он показал пальцем в небо, – решил, что раз мы бомбим друг друга, значит, нам это нужно.