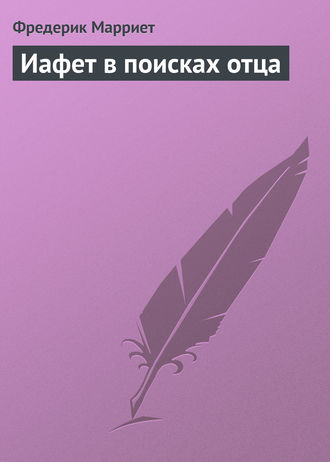
Фредерик Марриет
Иафет в поисках отца
Глава I
Кто удостоит эти листки чтением, не будет задержан долгим предварительным описанием моего рождения, родни и воспитания. Самое заглавие книги свидетельствует о том, что по первым двум пунктам я ничего и не мог знать.
Но в интересах повествования необходимо остаться в этом счастливом состоянии, счастливом потому, что при чтении рассказа, как и в продолжение нашей жизни, неизвестность будущего можно считать действительно за величайшее счастье. Все, что было обо мне известно, хотя и очень мало, я расскажу с возможной точностью и обстоятельностью.
Это было в… но я совершенно позабыл время. Чтобы навести справку, я принужден буду встать со стула, отыскать ключи, отпереть кабинет и перерыть кучу бумаг в сундуке. Таким образом, надолго задержу вас. Следовательно, достаточно будет сказать, что это было ночью; а описываемая ночь была ли темная, или лунная, дождливая или пасмурная, право не припомню, да, впрочем, оно и не так важно. Итак, я явился ночью… часу в… и вот опять остановка. Тогда могло быть часов десять, одиннадцать или полночь. Могло быть также и за полночь и близко уже к утру. Я ничего не могу тут утверждать, читатель должен извинить ребенка… Но тут новая запятая… Какого возраста? Ну, предположим, что мне было тогда несколько дней. Закутанный во фланель и сунутый в корзину, покоясь в сладком сне, я не замечал состояния погоды и времени дня по церковным часам; притом я никогда не считал времени важным делом в рассказах, да и слишком поздно это вспоминать в надлежащем порядке, когда все давно забыто; почему я и принужден рассказать мою историю со многими пропусками, надеясь на снисхождение читателей. Вот она. Ночью… состояние погоды было… я, ребенок неизвестного возраста, был привешен кем-то к ручке колокольчика у ворот воспитательного дома, и тот, кто принес меня, необыкновенно громко позвонил. Старый привратник вскочил с поспешностью и второпях так сильно ударил рукою по носу свою дорогую половину, что ушиб произвел кровотечение, а потом ужасные ругательства.
Вся тревога произошла из-за упомянутого звонка, но виновник, или виновники, шума давно уже исчезли, прежде чем старый привратник смог одеться и удовлетворить неучтивому требованию.
Наконец старик отворил ворота и наткнулся носом на висевшую корзину. Почтенный человек, отыскав ножик, вывел меня из затруднительного положения. В самом деле, это был жестокий поступок, заставить ребенка висеть некоторое время в таком ужасном положении. Он снес меня в свой дом, засветил свечу, открыл корзину, и вот состоялось мое чудесное появление в свет.
Когда он открыл корзину, я открыл глаза, хотя этого, впрочем, и не заметил; старуха его тогда стояла в самой легкой спальной одежде и, свесив нос над тазом с водой, обмывала эту часть лица.
– Посмотри-ка, жена, какой прелестный ребенок, что за глаза, черные, как смоль! – произнес старик.
– Черные глаза? – проворчала старуха с негодованием, обмывая нос. – Завтра будут и у меня черные глаза…
– Бедненький, как он озяб, – пробормотал старый привратник.
– Наверно и я простужусь и получу насморк, – прохрипела его супруга.
– Но, Боже мой, вот и бумага! – вскрикнул старик.
– Ну да, мне нужно хлопчатой бумаги и уксусу, – простонала жена привратника.
– Адресованная смотрителю, – сказал привратник.
– Адресуйся к аптекарю, – говорила тем же голосом жена его.
– И запечатано, – сказал он.
– Попроси, чтоб вылечил, – продолжала старуха.
– На нем хорошее белье… Это дитя, верно, не бедных людей.
– Мой бедный нос! – вскрикнула старуха.
– Надо снести его к кормилице, а письмо отдать смотрителю ужо или завтра. – И с этими словами ой отправился, неся вашего покорного слугу в корзине.
– Теперь лучше! – сказала его страждущая супруга, утирая нос полотенцем и возвращаясь к своей постели, куда вскоре явился и супруг ее. Они спокойно улеглись и таким образом продолжали прерванный сон без дальнейших приключений.
На следующее утро я был отнесен к смотрителю вместе с письмом, которое он распечатал и прочел. Оно было написано лаконично и заключалось в следующих словах:
«Дитя это законнорожденное; имя его Иафет. Когда обстоятельства позволят, он будет взят обратно».
При записке еще была бумага, которая стоила первой, – банковский билет в пятьдесят фунтов стерлингов.
Так как люди, которые вешают корзины с детьми, никогда не кладут денег или забывают их класть, мое появление произвело большой шум, который я и сам много увеличивал, пока мой голод не утолила молодая кормилица, питавшая двух или трех детей разом.
У нас в Англии во всех местах королевства есть подготовительные училища для мальчиков от трех до семи лет. Но важнейшее место занимает воспитательный дом, в который принимают детей не только нескольких дней, но даже нескольких часов, если родители боятся держать их у себя. Воспитание их начинается тем, что их приучают есть кисель вместо молока, потом учат ходить, потом заставляют сидеть, наконец, говорить, и коль скоро заговорят, учат держать язык за зубами. Таким образом их постепенно и воспитывают, переводя из одного отделения в другое, пока совершенно не выведут за ворота воспитательного дома. Получив кой-какое воспитание, они вступают в свет, не имея ни родителей, которые пеклись бы о них, ни родственников, которым могли бы докучать своими просьбами. Так случилось и со мной. Несмотря на обещание письма – вероятно, обстоятельства не позволяли его исполнить, – я до четырнадцати лет оставался в богадельном, или воспитательном, доме, где был счастливее других обитателей-воспитанников. Пятьдесят фунтов стерлингов, посланные со мной, не были назначены в капитал заведения, но употреблены в мою пользу смотрителями, которые были довольны моим поведением и имели хорошее мнение о моих способностях.
Вместо того, чтобы ограничить мое учение ремеслом сапожника, портного, или каким-нибудь другим, тому подобным, меня поручили аптекарю и отдали ему деньги, оставленные со мною еще со времени нахождения моего в корзине. Он, то есть аптекарь, взялся выучить сироту, как должно.
Но теперь, почтенный читатель, когда я вышел из воспитательного дома, мы не так скоро пойдем вперед.
Аптекарь, взявший меня для обучения, назывался мистер Финеас Кофагус; дом его был выстроен как будто бы нарочно для коммерческих дел. Одна сторона его, загроможденная лавками и лавочниками, выходила на Смитфилльд-Маркет, а другая, представлявшая собой стеклянную поверхность, – на главную улицу, ведущую в рынок. Нужно заметить, что дом был угольный, но не на углу; с обеих сторон к нему были прилеплены кабаки, к кабакам две пивные лавки, а к последним две харчевни. Все портики Кофагуса были посещаемы преимущественно мясниками, гуртовщиками и фермерами.
Если это общество напивалось до драки, то никто так искусно не перевязывал головы, как Кофагус. Если мясник наедался до апоплексического удара, то сейчас являлся ланцет Кофагуса. Если быку вздумалось прободать человека, то Кофагус являлся с примочкой и корпией. Если осел пугал женщину, то ее отводили в заднюю комнату Кофагуса, где она приходила в память. Когда лошади лягали людей, то и это способствовало его доходам. Торговые дни вообще доставляли большой доход моему хозяину. Люди и звери целиком и по частям, словом, одушевленное и неодушевленное, все платило должную дань Кофагусу, ради которой он не пропускал ни одного страждущего. Окна его дома были уставлены зелеными, желтыми и синими бутылками, и на одном из них стояла серая лошадь, а на другом вороная. Все это украшение служило вывеской для извозчиков, давая им знать, что здесь есть и лошадиные лекарства. Впрочем, у нас действительно были все медицинские снадобья, даже известный повсюду и употребляемый от всех болезней эликсир господина Энони. Я очень удивлялся при первоначальном моем аптекарском занятии, почему приготовляем мы столько других лекарств, когда имеем одно, которое в состоянии заменить все остальные. Лавка наша была очень просторна, и в задней части ее стояла огромная железная ступка с пестом. Первый этаж дома был занят господином Кофагусом, половина второго отдавалась внаем, а остальные комнаты принадлежали людям, прислуживающим в аптеке.
Я начал мое описание с такого низкого предмета, как лавка, для того, чтобы возвысить моего наставника в мнении читателя, когда я буду описывать его особу и личные достоинства.
Мистеру Кофагусу было около сорока пяти лет, когда я в первый раз был представлен ему в приемном зале воспитательного дома. Он был среднего роста, имел сухощавое лицо, крючковатый нос, маленькие веселые глаза и огромный рот, оттянутый в одном углу книзу. Толстое туловище его имело в середине весьма значительное возвышение, которое он любил поглаживать с большим снисхождением. Несмотря на достоинство верхней половины тела, ноги представляли собой две тонкие спички, так что Кофагус походил на известную птицу из породы цапель.
Одежда его состояла всегда из светло-фиолетового сюртука и такого же цвета жилетки, белого галстука и, высокого воротника рубашки, в который он мог скрыть свою физиономию; в правой руке он носил всегда толстую черную трость с золотым набалдашником, точно так, как представляют в карикатурах доктора на консилиумах, но разговор и манеры его были еще страннее фигуры: когда он начинал говорить, то всякий почел бы это за шум от полета какой-нибудь стаи птиц. Сверх того, он имел привычку примешивать всюду «гм», что составляло промежуток в его мысли, которую он всегда оканчивал любимыми словами «и так далее».
После разговора он отходил обыкновенно в другую часть комнаты, в угол или к печке, приложив трость к носу и нагнув голову на сторону с самодовольным выражением.
Когда я был представлен ему, он говорил с двумя смотрителями.
– Вот мальчик, – сказал один из них, – его зовут Иафет.
– Иафет! – сказал Кофагус. – Гм… по писанию Сим, Хам… гм… и так далее. Этот мальчик читает?
– Очень хорошо и так же хорошо пишет. Рекомендую его вам как милого ребенка, Кофагус.
– Читает, пишет, разбирает по складам… гм! Внедрим в него начала аптекарского искусства… писать сигнатурки… гм… потом будет человеком, доктором медицины… и так далее, – говорил Кофагус, ходя вокруг меня и вращая тростью перед моим носом и по временам рассматривая мою физиономию наблюдательным оком.
После этого осмотра я был отпущен, а на следующий день одет с ног до головы в новое платье и приведен привратником в лавку Кофагуса, которого, впрочем, не было, когда я к нему явился.
Глава II
За конторкой стоял высокий краснолицый молодой человек, но казалось, что румянец этот был в нем признаком чахотки. Он делал пакеты по рецептам, а возле него стоял чумазый мальчуган с ящиком для доставки всех лекарств по адресам. Молодой человек, стоявший за конторкой, был помощник Брукс, которому оставалось еще учиться полтора года. По прошествии этого срока друзья его хотели самого его сделать хозяином, и это заставило Кофагуса взять меня, выучить и сделать помощником, когда выйдет Брукс. Этот молодой человек был очень тих, любезен и снисходителен ко мне и мальчику-разносчику. Последний служил Кофагусу из-за одного насущного хлеба. Привратник, рассказав Бруксу, кто я, оставил меня с ним одного.
– Хотите ли вы быть аптекарем? – спросил меня Брукс с приветливой улыбкой.
– Я не вижу причин, почему бы мне не хотелось этого, – ответил я.
– Погодите немного, – сказал мальчик, который стоял с ящиком, – вы еще не испытали начал.
– Молчи, Тимофей! – вскрикнул Брукс. – Это очень понятно, что тебе начала, как называет Кофагус, не нравятся. Теперь отправляйся скорее с лекарством вот по этим адресам, понимаешь ли?
– Еще бы не понять, я ведь читаю почти все ваши латинские надписи и думаю сам начать торговать на днях.
– А я думаю тебя вздуть, если ты в другой раз так долго будешь зевать на вывешенные картинки.
– Этим-то я всему и научаюсь, – ответил, смеясь, Тимофей, выходя со своими посылками.
Только Тимофей вышел, вошел Кофагус.
– Эге, это Иафет, вижу, – сказал он, подымая свою трость. – Ничего дурного не делать… работать… гм. Мистер Брукс, выучите этого мальчика всем началам… и так далее.
Тут Кофагус отнял трость от носа, показал на железную ступку и потом ушел в заднюю комнату. Хотя я ничего не мог заключить из этого, но господин Брукс сейчас же понял, в чем дело. Он вытер ступку, положил туда чего-то, показал, как толочь, и предоставил мне эту работу. Через полчаса я понял, почему Тимофей имел такое отвращение к так называемым Кофагусом началам его искусства. Работа эта была ужасна, пот лил с меня градом, я почти не мог поднять рук. Кофагус проходил мимо и, видя, как я ворочал тяжелой железной ступкой, говорил мне:
– Хорошо, будущий доктор медицины и так далее. Мне стало ясно, что это слишком трудная дорога к известности, и я остановился перевести дух.
– Иафет, что ли? Гм. Фамилия? И так далее.
– Мистер Кофагус желает знать вашу фамилию, – перевел мне Брукс.
Я забыл сказать читателям, что детям в воспитательном доме дают сверх имени фамилию, и по записке, которую нашли в корзине, я получил фамилию подписавшейся особы.
– Фамилия моя Ньюланд, – ответил я.
– Ньюланд, гм! Славная фамилия, все полюбят ее непременно… гм, и так далее, – говорил Кофагус, уходя из лавки.
Я опять принялся за свое обучение. В это время Тимофей возвратился с пустым ящиком и засмеялся, увидев меня за работой.
– Нравятся ли вам начала… гм, и так далее, – сказал Тимофей, передразнивая Кофагуса.
– Не слишком трудные, – ответил я, отирая пот.
– Это было мое занятие до вашего прибытия, и я в продолжение года не выбрался еще из этих начал и думаю, что при них останусь.
Брукс заметил, что я устал, и велел мне оставить работу, чем я был очень обрадован и, повинуясь его приказанию, сел в углу лавки.
– Кажется, я окончил свою работу ante prandium (до обеда), – сказал Тимофей, кладя корзину под конторку.
– Нет, Тимофей, – ответил Брукс, – тебе еще надобно сходить post prandium (после обеда), только убрав прочь post.
Когда обед был готов, Кофагус и Брукс пошли в заднюю комнату, оставив меня с Тимофеем, чтобы дать знать, если придут покупатели.
Теперь удобный случай познакомить читателя с Тимофеем, потому что он будет играть важную роль в рассказе. Тимофей был мал ростом для своих лет, но прекрасного телосложения; у него было овальное лицо темного цвета, серые глаза, которые сверкали из-под длинных ресниц и притом так были косы, что встречались; он был ряб, но только вблизи рябинки его были заметны. Физиономия его всегда выражала веселость; он имел такое плутовское личико, что с первого взгляда нравился всякому, и я подружился с ним сейчас же.
– Откуда, Иафет, вы к нам попали?
– Из воспитательного дома, – ответил я.
– Вы не имеете ни друзей, ни родных?
– Если и имею, то по крайней мере не знаю, где они, – ответил я очень серьезно.
– Ну, не задумывайтесь об этом. Говорят, что я тоже воспитанник сиротского дома, но я не обижаюсь, только бы поскорее позвали обедать. Отец или мать, кто бы они ни были, бросили меня на произвол судьбы, да не унесли с собой моего аппетита. Я удивляюсь, как хозяин так долго изволит кушать, а Брукс ест менее птицы. Как ваша фамилия, Иафет?
– Ньюланд.
– Ньюланд… А моя, если угодно знать, Олдмиксон, к вашим услугам. Мне досталось это имя в наследство от насоса, находящегося в сиротском доме, на котором было написано «Тимофей Олдмиксон», и смотритель почел, что это название не хуже других; таким образом меня и окрестили, по имени мастера насоса, водою того же насоса, а когда я приобрел достаточную силу, то меня заставляли накачивать воду из того же насоса. Этим насосом я был занят в продолжение целого дня и называл свое занятие «работой при моем отце». Немногие сыновья беспокоили столько своих родителей, как я, и немногие так их ненавидели. Теперь, Иафет, я из вас высасываю все, что могу, по старой привычке.
– Следовательно, вы скоро высосете из меня все, потому что недолго рассказывать вам мою историю, – ответил я. – Но опишите, пожалуйста, что за человек наш хозяин?
– Он точно таков всегда, как вы его теперь видели, а когда он в дурном расположении, то еще смешнее. Мне он очень часто грозит, но никогда не наказывает, хотя Брукс и жаловался ему на меня несколько раз.
– Но Брукс, кажется, не зол?
– Да, он предобрый, но часто посылает меня слишком далеко. Брукс говорит, что люди могут умереть от недостатка лекарств, и причиной буду я, потому что оставляю часто мой ящик для шалостей. Это правда, но я не могу удержаться, чтобы не бросить свайку в кольцо; да, впрочем, за это получаю только удар, что ничего не значит. Когда же узнает об этом Кофагус, то мотает беспрестанно своей палкой под моим носом и твердит: «Дурной мальчик… толстая палка… гм… не позабудешь в другой раз… и так далее». И последние слова, – продолжал Тимофей смеясь, – заканчивают всегда и все, что бы он ни говорил.
В это время Кофагус и его помощник, окончив свой обед, вошли в лавку. Первый посмотрел на меня и приложил палку к носу.
– Маленькие мальчики всегда голодны… гм… любят хороший обед, жаренную говядину, пудинг… и так далее.
Он показал палкой на заднюю комнату. Тимофей и я на этот раз поняли его очень хорошо. Мы вошли в комнату, где была экономка, которая села вместе с нами и помогла нам докончить кушанье. Она была пресвоенравное маленькое женское существо, но так же точно честна, как и своенравна. Вот все, что я могу сказать в ее пользу. Тимофей не был ее любимцем, потому что ел порядком. Обо мне тоже она, кажется, не получила хорошего мнения по той же причине. С каждым глотком падала моя репутация в ее глазах и, наконец, опустилась до нуля. Тимофей пользовался подобной славой с давних времен, и за то же преступление. Но Кофагус не позволял ей ограничивать его на этот счет, говоря: «Маленькие мальчики должны есть или, в противном случае, не вырастут, и так далее».
Я скоро нашел, что нас не только хорошо кормили, но с нами хорошо даже обходились. Я был почти доволен своей судьбой; Брукс выучил меня делать надписи и все увязывать. Вскоре я достиг совершенства в этом, и, как Тимофей предсказывал, начала были опять в его руках. Кофагус одевал нас хорошо, но никогда не давал денег, и мы с Тимофеем часто оплакивали нашу участь, не имея за душой ни полушки.
Через шесть месяцев я составлял уже все лекарства, и Брукс мог отлучиться по делам. Он только отвешивал по рецептам, и потому, если кто-нибудь приходил, я просил ждать возвращения Брукса, говоря, что он скоро придет. Однажды, когда он вышел, я сидел за конторкой, а Тимофей умостился на ней с ногами, и мы оба жалели о том, что нет денег.
– Иафет, – сказал Тимофей, – я все выдумывал средство доставать деньги и наконец достиг своей цели; мы не будем отсылать приходящих в отсутствие Брукса, а сами будем лечить их.
Я вскочил от радости, услышав это предложение. Он не успел еще окончить его, как вошла какая-то старуха и сказала, что для ее внука нужно лекарство от кашля.
– Я не составляю лекарств, сударыня, – ответил Тимофей, – обратитесь к мистеру Ньюланду, который сидит за конторкой. Он знает, что нужно от всякой болезни.
– Боже мой, какое хорошенькое личико, и как еще молод! Разве вы доктор, сударь?
– Разумеется, – ответил я, – что вам нужно, микстуры или пилюль?
– Я не понимаю этих мудреных слов, но мне хотелось бы какого-нибудь лекарства.
– Хорошо, я знаю, что вашему внучку будет полезно, – ответил я, приняв значительный вид. – Тимофей, вымой эту склянку как можно чище.
– Сейчас, – ответил он с почтением.
Я взял мерку, налил немного зеленой, синей и белой жидкости из обыкновенно употребляемых Бруксом бутылок, дополнил ее водой, налил смесь в склянку, закупорил и надписал: «Haustus statim, sumendus» и передал через конторку женщине.
– Должен ли ребенок принимать это внутрь, или только натирать ему горло? – спросила старуха.
– Употребление написано на билете; но вы, может быть, не понимаете по-латыни?
– О нет, батюшка, нет… А ты понимаешь по-латыни? Что за милый, умный мальчик.
– Я не был бы хорошим доктором, если бы не знал этого.
Тут я подумал, что вернее употребить лекарство как наружное средство, и я перевел ей надпись следующим образом: haustus – втирать, statim – в горло, sumendus – кистью руки.
– Благодарю покорно; сколько я должна заплатить вам, сударь?
– Микстура – очень дорогое лекарство; это стоит двенадцать пенсов; но с вас, как с бедной женщины, я возьму девять.
– Покорно благодарю, – ответила старуха, кладя деньги и откланиваясь мне очень вежливо.
– Браво! – воскликнул Тимофей, потирая руки. – Мы разделим это пополам, Иафет, не правда ли?
– Да, – ответил я, – но мы должны поступить честно и не обманывать Кофагуса; склянку продают, как ты знаешь, за один пенс; я думаю, что лекарство также не стоит более пенса, так если мы заплатим два пенса Кофагусу то его не обманем и не украдем его собственности, а остальные семь пенсов будут нашим барышом.
– Но как мы поставим эти два пенса на счет? – спросил Тимофей.
– Скажем, что продали две склянки вместо одной, ты знаешь, что их никогда не считают.
– Прекрасно, – воскликнул Тимофей, – теперь станем делить!
Но этого нельзя было сделать до тех пор, пока Тимофей не сбегал и не разменял денег. Мы получили каждый по три пенса с половиною и в первый раз в жизни могли сказать, что имеем деньги в кармане.







