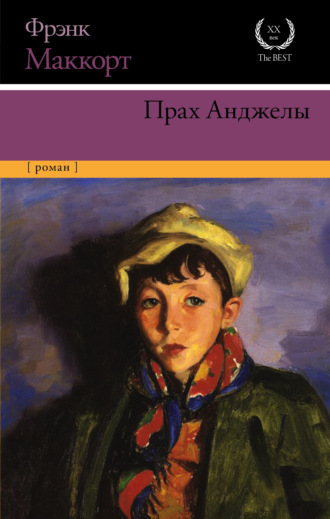
Фрэнк Маккорт
Прах Анджелы
– Огонь так разгорелся, – говорит мама, – что лампу можно выключить, все равно пока на газ денег нет.
В комнате становится тепло; языки пламени в камине похожи то лица, то на горы и долины, то на скачущих зверей. Юджин засыпает на полу, и папа переносит его на постель к Оливеру. Мама ставит кастрюльку с луком на каминную полку, чтоб ни одна мышь или крыса не добралась. Говорит, что совсем умаялась за день: сначала Общество Святого Викентия, потом лавка миссис Макграт, уголь на дороге, а теперь Оливер лук не ест, и если завтра будет так же, придется к доктору идти, так что сейчас она идет спать.
Мы все ложимся, и если иногда блоха куснет, я не обращаю внимания – в постели так тепло вшестером, и мне нравится смотреть, как отблески огня пляшут на стенах и на потолке, и комната становится то красной, то черной, то снова красной и черной, а потом, постепенно, черно-белой, и слышно только, как Оливер всхлипывает и ворочается на руках у мамы.
* * *
Утром папа разводит огонь, ставит чай, нарезает хлеб. Папа уже одет и просит маму собраться поскорее.
– Фрэнсис, – говорит мне папа. – Твой братик Оливер заболел, мы отвезем его в больницу. Будь умницей и посиди с братиками, а мы скоро вернемся.
– Сахара много не ешьте, – предупреждает мама. – Мы не миллионеры.
Мама берет Оливера на руки, кутает его в пальто, а Юджин стоит рядом с кроватью и хнычет:
– Хочу Олли. Играть с Олли.
– Олли скоро вернется, – обещает мама. – Пока играй с Мэйлахи и Фрэнком.
– Олли, Олли, хочу Олли.
Он провожает Оливера взглядом, а потом садится на кровать и смотрит в окно.
– Джини, Джини, – зовет его Мэйлахи. – У нас есть хлеб и чай. Хлеб с сахарком будешь, Джини?
Юджин мотает головой и отталкивает руку Мэйлахи с хлебом. Потом переползает на постель, туда, где спали Оливер с мамой, и глядит в окно.
На пороге стоит бабушка.
– Говорят, ваши отец с матерью неслись по Генри-стрит с ребенком на руках. Куда это они?
– Оливер заболел, – поясняю я. – Лук вареный в молоке не ест.
– Чего-чего ты там болтаешь?
– Лук не стал есть и заболел.
– А кто за вами приглядывает?
– Я.
– А этот чего лежит? Как его кличут-то?
– Юджин. Он по Оливеру скучает. Они близнецы.
– Знаю, что близнецы. Худющий-то какой. Каша хоть есть у вас?
– Что такое каша? – спрашивает Мэйлахи.
– Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом! Что такое каша?! Каша – это каша. Да что за янки бестолковые, никогда такого невежества не встречала. Ну-ка, одевайтесь, пойдем к тете Эгги, дадим вам каши. – Она берет на руки Юджина, закутывает его в шаль, и мы идем к тете Эгги. Она вернулась к Па Китингу, потому что тот наконец признал, что она не корова и не толстая.
– Каша есть у тебя? – спрашивает бабушка тетю Эгги.
– Каша? Я что тут кашу всяким янки раздавать должна?
– Эх ты, – корит ее бабушка. – Каши чуток пожалела.
– А потом небось сахара и молока захотят, да еще яиц скажут подавай. Почему это мы должны расплачиваться за Анджелины ошибки?
– Боже правый, – сокрушается бабушка. – Хорошо, не ты была хозяйкой вифлеемского хлева, не то Святое Семейство так и скиталось бы по свету, падая от голода.
Бабушка оттесняет тетю Эгги в сторону, усаживает Юджина на стул у огня и принимается варить кашу. Из соседней комнаты выходит мужчина. У него черные кудрявые волосы, и кожа темная-претемная; мне нравятся его глаза – синие и веселые. Это муж тети Эгги, тот самый человек, который остановился около нас в ту ночь, когда мы сражались с блохами, рассказывал нам про блох со змеями и кашлял, потому что наглотался газа на войне.
– Ты почему такой черный? – спрашивает его Мэйлахи.
Дядя Па Китинг заходится смехом и начинает так сильно кашлять, что ему приходится закурить.
– Ох вы, янки-малыши, – смеется он. – Ни капли стеснения. Я черный от того, что работаю на газовом заводе, кидаю уголь и кокс в печи. Во Франции газ глотал, и тут снова глотаю. Ну не смешно ли? Подрастете, поймете.
Мы с Мэйлахи выходим из-за стола, чтоб взрослые попили чаю. Они пьют чай, но дядя Па Китинг, который мне дядя, потому что он женат на тете Эгги, усаживает Юджина к себе на колени.
– Ты чего грустный такой? – спрашивает он Юджина, строит ему рожицы и смешно мычит.
Мы с Мэйлахи хохочем, но Юджин молча тянется к черному лицу Па Китинга. Тот делает вид, что сейчас откусит Юджину руку, тот смеется, и все в комнате тоже. Мэйлахи подходит к Юджину и тоже пытается его рассмешить, но Юджин утыкается лицом в рубашку Па Китинга.
– Кажется, я ему нравлюсь, – замечает Па, и тут тетя Эгги ставит на стол свою кружку с чаем и принимается рыдать; по ее покрасневшим пухлым щекам градом катятся слезы.
– Да боже ж мой, – ворчит бабушка. – Чего опять?
– Каково мне на Па с младенцем глядеть, коли я уж и родить не надеюсь?! – всхлипывает тетя Эгги.
– А ну перестань чепуху всякую при детях болтать! – рявкает бабушка. – Совсем стыд потеряла. Господь милостив, пошлет он тебе ребеночка в свое время.
– У Анджелы вон пять и еще одного потеряла, а ведь неумеха такая, полы даже вымыть не может. А у меня и полы блестят, и сготовить я могу хоть что – хоть рагу, хоть жаркое, – а нет никого.
– Я, пожалуй, себе этого паренька оставлю, – смеется Па Китинг.
– Нет-нет-нет! – бежит к нему Мэйлахи. – Это мой братик Юджин.
И я тоже говорю:
– Нет-нет, это наш братик.
– Ничего мне Анджелиного не нужно, – сердится тетя Эгги, смахивая слезы с мокрых щек. – А уж того, что наполовину из Лимерика, а наполовину с Севера тем более. У меня свое дите будет, даже если мне для этого придется по сто раз девятину прочесть к Деве Марии и матери ее Анне или на коленях ползти до самого Лурда[39].
– Ну все, хватит, – говорит бабушка. – Каши поели, теперь домой, мать с отцом уже, наверное, из больницы вернулись. – Она кутается в шаль и собирается взять Юджина на руки, но тот так крепко вцепился в рубашку Па Китинга, что его чуть ли не силой приходится отнимать, и пока мы идем к двери, он все на него оглядывается.
* * *
Бабушка отвела нас домой. Она уложила Юджина в постель, дала ему попить воды и велела быть паинькой и засыпать; его братик Оливер скоро вернется домой, и они снова будут вместе играть на полу.
Но Юджин все смотрел и смотрел в окно.
Бабушка разрешила нам с Мэйлахи поиграть на полу, но только тихо, потому что она будет молиться. Мэйлахи сел на постель к Юджину, а я все пытался разобрать слова в газете, которая у нас вместо скатерти. Слышно было только, как Мэйлахи шептал что-то Юджину, пытаясь его развеселить, да щелкали бусины четок, потому что бабушка бормотала молитвы. Стало так тихо, что я заснул, лежа головой на столе.
* * *
Папа трясет меня за плечо.
– Фрэнсис, пригляди за братиками.
Мама съежилась на краешке кровати и как-то странно плачет – будто птичка чирикает. Бабушка кутается в шаль.
– Дойду до конторы Томпсона, гроб надо заказать и повозку. Уж это-то в Святом Викентии оплатят, – говорит бабушка и выходит за дверь.
Папа стоит у камина, отвернувшись к стене, бьет себя кулаками по ногам и вздыхает.
Меня пугают папины вздохи и мамин птичий плач, и я не знаю, что мне делать, и затопит ли кто-нибудь камин, чтоб попить чаю с хлебом, а то с тех пор, как мы кашу ели, уже много времени прошло. Если бы папа отошел от камина, я бы сам огонь разжег, надо только бумагу, немного угля или торфа и спичку. Но папа так и стоит на месте и бьет себя по ногам. Я пытаюсь его обойти, но он меня замечает и спрашивает, зачем мне огонь. Я говорю ему, что мы есть хотим, и он смеется каким-то странным смехом.
– Есть хотите? – переспрашивает он. – Ох, Фрэнсис, твой братик Оливер умер. Сестричка умерла, а теперь и братик. – Он берет меня на руки и обнимает так крепко, что я вскрикиваю.
Мэйлахи принимается реветь, мама плачет, папа плачет, я плачу, один Юджин молчит.
– Ничего, сейчас попируем, – шмыгает носом па- па. – Идем, Фрэнсис.
Он говорит маме, что мы скоро вернемся; у нее на коленях сидят Мэйлахи и Юджин, и она даже не поднимает головы. Папа ведет меня по улицам Лимерика. Мы заходим подряд во все магазины, и он спрашивает, продавцов, не дадут ли они каких-нибудь продуктов или чего- нибудь еще семье, за год потерявшей двоих детей – дочку в Америке, и сына в Лимерике, – а троим оставшимся грозит та же участь, потому что им есть и пить нечего. Почти все качают головами и говорят, что соболезнуют, что нам лучше пойти в Общество Святого Викентия де Поля или обратиться за пособием.
Папа говорит, мол, отрадно, что в Лимерике торжествует Дух Христов, а ему отвечают, что нечего тут со своим северным акцентом о Христе рассуждать и постыдился бы таскать с собой ребенка, как цыган какой-нибудь или попрошайка.
Некоторые все же дают хлеба, картошки и фасоли в банках, и папа говорит, что, мол, сейчас вернемся домой и вы, ребятки, наконец-то поедите, но по дороге мы встречаем Па Китинга. Тот говорит, что очень сочувствует папе, и предлагает зайти в паб, выпить по кружечке.
У людей в пабе огромные кружки с чем-то черным. Па Китинг и папа тоже заказывают себе такие. Они медленно поднимают кружки и пьют потихоньку. На губах у них остается белая пена, которую они шумно облизывают. Дядя Па покупает мне бутылку лимонада, а папа дает кусочек хлеба, и я вроде как уже и наелся. Интересно, когда мы пойдем домой? Мэйлахи и Юджин сидят там голодные. Каша была много часов назад, а Юджин к ней и не притрагивался.
Папа и дядя Па допивают черное в кружках и берут еще.
– Фрэнки, это пинта, – говорит Па Китинг. – Живая вода. Кормящим матерям уж больно полезна, да и всем, кого давно от груди отлучили тоже. – Он смеется, а папа улыбается, и я смеюсь, потому что, наверное, надо смеяться, когда дядя Па шутит. Потом он уже не смеется, а рассказывает другим людям в пабе про Оливера. Те приподнимают кепки и говорят папе, что соболезнуют и что ему определенно надо выпить.
Папа соглашается и вскоре уже распевает «Родди Маккорли», «Кевина Барри» и всякие другие песни и оплакивает кроху-дочурку, которая умерла в Америке и малыша Оливера, который умер тут в больнице. Мне страшно от того, что папа то воет, то плачет, то поет, и я хочу поскорее домой к трем, нет, теперь уже двум братикам и маме.
– Вам, пожалуй, хватит, мистер, – говорит папе мужчина за барной стойкой. – Мы вам, конечно, сочувствуем, но ребенку пора к матери, она там сидит, наверное, у огня, убитая горем.
– Ну еще только одну пинту, а? – просит папа.
– Нет, – отвечает бармен.
– Я за свободу сражался, – трясет кулаком папа, а когда бармен выходит из-за стойки и берет папу за руку, то папа его отталкивает.
– Пойдем, Мэйлахи, – говорит дядя Па. – Не упрямься. Домой пора, к Анджеле. Завтра похороны, и детишки тебя ждут.
Но папа все упирается, и несколько человек выталкивают его на темную улицу. Вслед за ним из двери вываливается дядя Па с кульком еды.
– Пойдем, – велит он. – Домой тебе надо.
Папа хочет пойти в другой паб, но дядя Па говорит, что у него деньги кончились. Папа убеждает его, что расскажет там о своем горе и ему нальют кружечку бесплатно, а дядя Па отвечает, что нехорошо так делать, и папа рыдает у него на плече.
– Ты – хороший друг, – говорит он дяде Па и снова плачет, а дядя Па похлопывает его по спине и приговаривает, что это ужасное горе, но со временем станет легче.
– Никогда, – говорит папа, выпрямляясь и глядя ему в глаза. – Никогда.
* * *
На следующий день мы поехали в больницу на повозке, запряженной лошадью. Там Оливера положили в белый ящик, который приехал с нами, и мы повезли его на кладбище. Ящик опустили в яму и засыпали землей. Мама и тетя Эгги плакали, у бабушки был сердитый вид, а у папы, дяди Па Китинга и дяди Пэта Шихана – грустный, но они не плакали, и я подумал, что, наверное, мужчине можно плакать только когда он пьет черную воду под названием пинта.
Мне не нравились галки, которые сидели на деревьях и могильных камнях, и я не хотел оставлять им Оливера. Одна галка поковыляла к могиле Оливера, и я швырнул в нее камнем. Папа сказал, что нельзя в галку камнем – вдруг это чья-то душа? Я не знал, что такое душа, но спрашивать не стал, потому что, какая разница. Оливер умер, и я ненавижу галок. Когда вырасту, то приду сюда с мешком камней и все кладбище усею галочьими трупами.
* * *
На следующей утро после похорон Оливера папа пошел на биржу труда за пособием – девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Сказал, что к полудню вернется, принесет угля и разведет огонь и мы пообедаем яичницей с ветчиной и выпьем чаю, чтоб Оливера помянуть, а может, нам даже по конфетке перепадет.
Он не вернулся ни к полудню, ни к часу дня, ни к двум. Мы сварили и съели несколько картошин, которые нам дали вчера в лавках. В тот майский день папа пришел только после захода солнца, когда позакрывались все пабы – слышно было, как он распевает на Уиндмилл-стрит:
Умолкло все вокруг, тревожно бдит.
А запад спит, увы, все запад спит.
Напрасно Эрин скорбный клич трубит —
Не внемлет Коннахт – пеленою сна укрыт.
Там озеро раскинулось привольно на просторе,
Вокруг застыли скалы в вековом дозоре.
И знать не знал бы человек ни слез, ни горя,
Коли свободе поучился бы у ветра и у моря[40].
Папа вошел в комнату, спотыкаясь и держась за стену. Из носа у него текло, и он то и дело утирался рукавом.
– Мальщикам шпать пора. Слышьте? Шпать нада, – проговорил он заплетающимся языком.
– Дети есть хотят, – преградила ему путь мама. – Пособие принес? Хоть рыбы с картошкой купить, чтоб не совсем с пустыми животами спать пошли.
Она принялась шарить у него в карманах, но он ее оттолкнул.
– Уфашение имей. Перед мальщиками.
Мама снова потянулась к карманам.
– Где деньги? Дети голодные. Ах ты, пьянь поганая, опять все пропил? Как в Бруклине.
– Ох, бедная Анджела. Бедные крошки Маргрет и Ольвер, – пьяно всхлипывал папа.
Потом шатнулся ко мне и обнял. От него несло перегаром, как в Америке. Он намочил мне лицо слезами, слюнями и соплями, и все рыдал мне в волосы, а я хотел есть и не знал, что сказать.
Потом папа меня отпустил и обнял Мэйлахи, по-прежнему бормоча, что наши сестричка и братик лежат в сырой земле и что нам всем надо молиться, хорошо себя вести и делать то, что велит мама. Еще он сказал, что хоть у нас и горе, нам с Мэйлахи пора идти в школу, потому что важнее учености ничего нет, и рано или поздно она нам пригодится, а еще нужно исполнить свой долг перед Ирландией.
* * *
Мама заявляет, что ни минуты на Уиндмилл-стрит не останется, что спать не может, все вспоминает, как Оливер лежал тут на постели, играл на полу, сидел у папы на коленях. И для Юджина нехорошо тут оставаться: близнец страдает от потери брата так, что даже мать не в силах представить. На Хартстондж-стрит сдают комнату. Там две кровати, а у нас одна на шестерых, нет, на пятерых. Мы снимем ту комнату и точка, мама сама пойдет в четверг на биржу, встанет в очередь, и заберет пособие. Папа говорит, что она его опозорит, что биржа – для мужчин, и не дело, когда жены выхватывают у них деньги из-под носа.
– Сам виноват, – отвечает мама. – Если б не шлялся по пивнушкам, мне бы не пришлось гоняться за тобой, как в Бруклине.
Папа повторяет, что она его опозорит навеки, но мама говорит, что ей наплевать. Ей нужно жилье на Хартстондж-стрит: теплая уютная комната с туалетом внизу, как в Бруклине. К тому же, там нет блох и убийственной сырости. А еще на той же улице находится государственная школа Лими, и в обед мы с Мэйлахи сможем забегать домой, чтобы съесть гренок и выпить чаю.
В четверг мама идет с папой на биржу и, как только ему просовывают в окошко деньги, тут же их забирает. Мужчины в очереди пихают друг друга локтями и усмехаются, и папа опозорен, потому что негоже, чтобы женщина распоряжалась пособием, которое дают мужчине. А вдруг ему захочется поставить шестипенсовик на лошадку или выпить пинту? Если все женщины начнут так себя вести, то и скачек больше не будет, и «Гиннесс» разорится. Но теперь деньги у мамы, и мы переезжаем на Хартстондж-стрит. Потом мама берет Юджина на руки, и мы идем в школу Лими. Директор, мистер Скэллан, велит нам приходить в понедельник и принести с собой тетрадь для упражнений, карандаш и ручку с хорошим пером. И чтоб никакого лишая или вшей, и носы высморкать, причем не на пол (нечего тут чахотку распространять) и не в рукав, а в чистый носовой платок или тряпицу. Директор спрашивает, обещаем ли мы хорошо себя вести, и когда мы говорим, что да, он удивляется:
– Бог ты мой, да вы янки, что ли?
Мама рассказывает ему про Маргарет и Оливера, и директор говорит:
– Боже Всевышний, сколько же страданий в мире! Что ж, младшего, Мэйлахи, определим в подготовительный класс, а брата его – в первый. Оба класса занимаются в одном кабинете, и учитель у них один. Итак, жду утром в понедельник, ровно в девять.
Мальчики в школе удивляются, почему мы так говорим.
– Вы что, янки, что ли?
Мы отвечаем, что приплыли из Америки, и они спрашивают:
– А вы гангстеры или ковбои?
Какой-то толстый мальчик подходит ко мне так близко, что мы оказываемся с ним нос к носу.
– Я спрашиваю: гангстеры вы или ковбои?
Я говорю ему, что не знаю, и он тычет меня пальцем в грудь, а Мэйлахи тогда говорит, что он гангстер, а Фрэнки – ковбой.
– Братишка у тебя смышленый, а ты – тупой янки, – усмехается толстяк.
– Врежь ему, врежь ему! – радостно вопят другие мальчики, и он толкает меня так сильно, что я падаю.
Мне хочется заплакать, но в глазах у меня темнеет, так же, как тогда с Фредди Лейбовицем. Я кидаюсь на толстяка и бью его ногами и кулаками. Он падает, и я пытаюсь схватить его за волосы, чтоб треснуть головой об землю, но тут ноги мне чем-то жалит сзади, и меня оттаскивают сторону.
Учитель, мистер Бенсон, хватает меня за ухо и колотит по ногам тростью.
– Ах ты хулиган, – приговаривает он. – В Америке своей драться научился? Богом клянусь, ты у меня научишься себя вести!
Он велит мне вытянуть сначала одну руку, потом другую, и бьет меня палкой по ладоням.
– А теперь марш домой, – говорит он. – И расскажи матери, как плохо себя вел. Ну-ка повтори: «Я дурной».
– Я дурной.
– Теперь скажи: «Я – дурной янки».
– Я – дурной янки.
– Он не дурной, – вступается Мэйлахи. – Это вон тот мальчик сказал, что мы ковбои и гангстеры.
– Это правда, Хеффернан?
– Да я же пошутил, сэр.
– Больше никаких шуток, Хеффернан. Не их вина, что они янки.
– Да, сэр.
– И ты Хеффернан должен каждый день на коленях благодарить Господа, что ты не янки, потому что если бы ты был янки, Хеффернан, то стал бы величайшим гангстером по обе стороны Атлантики. Сам Аль Капоне приходил бы у тебя учиться. И не лезь больше к этим двум янки, Хеффернан.
– Не буду, сэр.
– А если будешь, Хеффернан, я с тебя три шкуры сдеру и на стену их повешу. А теперь все – марш домой!
* * *
В школе Лими семь учителей, и у каждого имеется кожаный ремень, трость и терновая палка. Палкой бьют по плечам, спине и ногам, а особенно часто – по рукам. Последнее называется «шлепать». Колотят за опоздания, за то, что ручка течет, за смех, за разговоры, и если чего-то не знаешь.
Отлупят, если не ответишь, почему Бог сотворил землю и какой святой покровительствует Лимерику, не сможешь прочесть наизусть апостольский Символ веры[41], сложить в уме девятнадцать и сорок семь или отнять девятнадцать из сорока семи, перечислить главные города тридцати двух графств Ирландии и товары, которые в них производят, или найти Болгарию на карте мира, заляпанной плевками, козявками и чернильными кляксами – в качестве мести от учеников, которых выгнали из школы насовсем.
А кроме того, накажут, если не сможешь представиться, прочесть «Богородице Дево, радуйся» и попроситься в туалет на ирландском.
И тут уж главное – слушать старшеклассников. Они знают, кто твой учитель, и могут подсказать, что ему нравится, а что – нет.
Так, один учитель побьет, если не знаешь, что Имон де Валера[42] – величайший из людей. Другой – если не скажешь, что величайшим из людей был Майкл Коллинз[43].
Мистер Бенсон терпеть не может Америку и побьет каждого, кто посмеет хорошо о ней отзываться.
О’Ди ненавидит Англию, и не смей о том забывать, не то будешь бит. А если ненароком брякнешь что-нибудь хорошее про Оливера Кромвеля, побьет любой из учителей.
Даже если тебя шесть раз «шлепнут» по рукам ясеневой тростью или терновой с набалдашником, плакать не смей – прослывешь слюнтяем. Мальчишки будут свистеть тебе вслед и дразнить на улицах, но даже забиякам надо быть осторожными, потому что когда-нибудь накажут и их, а слез показывать нельзя, иначе позор тебе на веки вечные. Некоторые ребята говорят, что лучше поплакать, потому что учителям это нравится. Стерпишь молча – выставишь учителя слабаком перед классом, и он даст себе зарок в следующий раз терзать тебя до слез или до крови, а лучше до того и другого.
Пятиклассники рассказывают, что мистер О’Ди вызывает ученика отвечать перед классом, а сам встает сзади и изо всех сил тянет его за бачки, приговаривая:
– А ну, тянись к знаниям, тянись.
И вот ты уже стоишь на цыпочках, и на глаза у тебя наворачиваются слезы. Нельзя перед однокашниками плакать, но когда тебя тянут за волосы, слезы сами из глаз текут, а учителю того и надо. Мистер О’Ди как никто умеет довести ученика до слез и опозорить перед всей школой.
И все же лучше не плакать, надо быть заодно с ребятами и не доставлять радости учителям.
А отцу и матери без толку жаловаться, что учитель тебя бьет. У них ответ один:
– Значит, за дело. И нечего тут нюни распускать.
* * *
Я-то понимаю, что Оливер умер, и Мэйлахи понимает, а Юджин еще слишком мал и не уразумеет этого никак. Он зовет Олли по утрам, нетвердыми шажками топает по комнате и заглядывает под кровати или забирается на ту, что у окна, и говорит: «Олли, Олли», показывая пальчиком на детей на улице, особенно на светловолосых, как Оливер и он сам.
Мама, всхлипывая, берет его на руки и крепко обнимает, но он не хочет сидеть на ручках, а хочет скорее на пол – искать Оливера.
Папа с мамой говорят ему, что Оливер играет с ангелочками в раю и что мы когда-нибудь встретимся с ним на небесах, но Юджин не понимает – ему всего два, он еще словами объяснить ничего не может, и вот это-то хуже всего.
Я и Мэйлахи играем с ним и пытаемся его развеселить. То рожицы корчим, то ставим себе на головы кастрюли и нарочно их роняем. Еще бегаем по комнате и как будто случайно падаем. Водим его в Народный парк посмотреть на цветочки, поиграть с собачками, поваляться на травке.
Там тоже гуляют дети со светлыми волосами, как у Оливера. Юджин больше не зовет их «Олли», а только показывает на них пальчиком.
Папа говорит, Юджину повезло, что у него такие братья, потому что мы помогаем ему забыть горе, и скоро с Божьей помощью он и не вспомнит про Оливера.
* * *
Но он все равно умер.
Тем злосчастным ноябрьским утром, спустя шесть месяцев после того, как не стало Оливера, мы проснулись утром и обнаружили, что Юджин лежит рядом с нами совсем холодный. Приехавший вскоре доктор Трой сказал, что ребенок скончался от пневмонии и что его давно следовало положить в больницу, почему же этого не сделали?
Папа ответил, что не замечал ничего странного, и мама тоже, а доктор Трой заявил, что так вот дети и умирают, потому что родители не замечают ничего странного, и что если мы с Мэйлахи хотя бы раз кашлянем или чуть осипнем, нас надо немедленно доставить к нему в любое время дня и ночи. И промокать нам категорически нельзя, потому что слабые легкие – это, похоже, у нас семейное. Еще он сказал маме, что очень сочувствует ее горю и пропишет кое-какое лекарство, от которого ей станет легче.
– Слишком многого требует от нас Бог, слишком многого, – вздохнул он.
К нам пришли бабушка с тетей Эгги. Бабушка обмыла Юджина, а тетя Эгги сходила в лавку за белым платьицем и четками. Юджина обрядили в платьице и положили на кровать у окна, откуда он, бывало, высматривал Оливера. Руки ему сложили на груди – одну поверх другой – и обвили их маленькими белыми четками. Бабушка его причесала – убрала волосы со лба, приговаривая, что они у него чудесные и шелковистые. Мама укрыла ему ножки одеялом, чтоб не замерз. Бабушка и тетя Эгги молча переглянулись. Папа стоял у изножья кровати, снова бил себя кулаками по ногам и твердил, будто бы обращаясь к Юджину:
– Это все река Шаннон, сырость с реки убила вас с Оливером.
– Да замолчи ты, – цыкнула на него бабушка. – И без тебя тошно.
Она дала мне рецепт и велела сбегать в аптеку О’Коннора за пилюлями – денег не возьмут, спасибо доктору.
Папа сказал, что пойдет со мной и что мы еще в церкви иезуитов помолимся за Маргарет, Оливера и Юджина и за их счастливое воссоединение в раю. Получив в аптеке пилюли, мы зашли в церковь, а когда вернулись домой, бабушка дала папе денег, чтоб он купил себе не- сколько бутылок стаута.
Мама не разрешала, но бабушка возразила, что ему-то пилюль не прописали, пусть хоть пивом немного утешится. Папе она сказала, что назавтра ему в похоронную контору идти за гробиком, а мне наказала проследить, чтоб он в пабе не просидел всю ночь и все деньги не пропил.
– Фрэнки нечего делать в пабах, – сказал папа.
– Вот и не сиди там, – огрызнулась бабушка.
Папа надел кепку, и мы пошли в «Саутс-паб», и уже у дверей папа велел мне идти домой, мол, он только кружечку одну выпьет и вернется.
Я сказал, что без него не уйду.
– Будь умницей, – уговаривал меня папа. – Иди домой к нашей бедной маме.
Я опять не ушел, и папа сказал, что Бог не любит непослушных мальчиков.
Я заявил, что один домой не уйду.
– И куда только мир катится, – вздохнул папа.
Он быстренько выпил кружку портера в пабе, и мы взяли с собой еще несколько бутылок пива. Дома у нас сидели Па Китинг с бутылочкой виски и стаутом и дядя Пэт Шихан с двумя бутылками стаута. Дядя Пэт прямо на полу обнимал бутылки и твердил, что они его. Те, кого на голову роняли, всегда боятся, что у них украдут пиво.
– Ладно, Пэт, пей свое пиво. Никто тебя не трогает, – сказала бабушка.
Она и тетя Эгги сидели на кровати рядом с Юджином. Па Китинг пил пиво за кухонным столом и предлагал всем отхлебнуть у него виски. Мама приняла пилюли и села у камина, взяв Мэйлахи на колени. Она все повторяла, что у Мэйлахи волосики, как у Юджина, а тетя Эгги твердила, что вот и нет, пока бабушка не пихнула ее локтем и не велела замолчать. Папа стоял, прислонившись к стене между камином и кроватью, и пил пиво. Па Китинг рассказывал всякие байки, и взрослые смеялись, но нехотя и тихонько – ведь негоже смеяться в комнате, где лежит почивший ребенок. Па Китинг рассказывал, что когда он воевал вместе с англичанами во Франции, немцы напустили в окопы газу, и ему так поплохело, что его в госпиталь увезли. Подержали там маленько, а потом отправили обратно. Английских-то солдат домой отпустили, а что до ирландских, то всем было наплевать, выживут они или помрут. Однако Па мало что не умер, так еще и сколотил себе целое состояние, решив величайшую проблему окопной жизни. В окопах было сыро и грязно – ну никак чаю не вскипятишь. Вот он и подумал: «Господи, у меня ж в организме столько газа пропадает!» Поместил он себе в задницу трубку, чиркнул спичкой, да столько огня добыл, что хоть закипятись воду. Тут же к нему сбежались солдаты и стали любые деньги предлагать за кипяток. И столько Па Китинг денег заработал, что подкупил генералов – те отпустили его из армии, и он умчался в Париж, а уж там вдоволь покутил с художниками и натурщицами. И так увлекся, что растратил все деньги, пришлось вернуться в Лимерик, а уж тут другой работы для него не нашлось, кроме как в топку уголь кидать, и теперь в организме у него столько газа, что хватит какой-нибудь город целый год отапливать. Тетя Эгги хмыкнула, что неприлично такое рассказывать рядом с умершим ребенком, а бабушка сказала, что лучше такое рассказывать, чем сидеть с постными рожами. Дядя Пэт Шихан сказал с полу, что сейчас споет.
– Пой, конечно, – разрешил Па Китинг, и дядя Пэт запел «Дорогою в Рашин».
Правда, на самом деле он не пел, а лишь повторял:
– Рашин, Рашин, милая моим.
И прочую бессмыслицу, потому что давным-давно его уронили на голову, и теперь каждый раз он пел эту песню по-разному. Бабушка похвалила его пение, а Па Китинг заявил, что дядя Пэт наступает на пятки самому Карузо. Папа сел на край постели, где спали они с мамой, поставил бутылку на пол и, закрыв лицо руками, зарыдал. Потом позвал меня и обнял, как мама обнимала Мэйлахи.
– Завтра похороны, поспать бы надо, – сказала бабушка.
Взрослые по очереди опускались на колени у постели, читали молитву и целовали Юджина в лобик. Папа спустил меня на пол, встал и проводил каждого кивком. Когда все ушли, он допил все пиво, которое оставалось в бутылках, а в бутылку виски засунул палец и облизал. Потом погасил керосиновую лампу на столе и объявил, что мы с Мэйлахи будем спать на их с мамой постели, потому что на другой лежит Юджин. В комнате стало темно, только мягкие шелковистые волосики Юджина блестели в серебристом свете уличного фонаря.
* * *
Утром папа разводит огонь, заваривает чай, подсушивает над огнем гренки. Он приносит чаю с хлебом маме, но она отказывается и снова отворачивается к стене. Папа велит нам с Мэйлахи встать на колени перед Юджином и помолиться, потому что молитва одного ребенка стоит молитв десяти кардиналов и сорока епископов. Папа показывает нам, как правильно креститься, и говорит:
– Боже милостивый! Вот, значит, какова твоя воля? Ты забрал у меня сына Юджина. И брата его Оливера. И сестру их Маргарет. И кто я, чтоб роптать? Боже милосердный, не знаю, почему должны умирать дети, но на все воля твоя. Ты велел реке Шаннон их убить, и она убила. Сжалься же над нами наконец. Оставь нам хотя бы этих детей. Это все о чем мы просим. Аминь.
Папа помогает нам с Мэйлахи вымыть головы и ноги, чтобы мы пошли чистыми на похороны Юджина. Мы молчим даже когда он больно чистит нам уши уголком полотенца, привезенного из Америки. Надо вести себя тихо, потому что на постели лежит Юджин с закрытыми глазами, и мы боимся, что он их откроет и будет искать в окне Оливера.
Приходит бабушка и уговаривает маму подняться с постели.
– У тебя живые дети остались, им нужна мать, – увещевает она.
Потом приносит маме чаю запить пилюли, от которых станет легче. Папа говорит бабушке, что сегодня четверг и ему надо идти на биржу за пособием, а потом в похоронную контору за повозкой и гробиком. Бабушка велит ему взять меня с собой, но папа отвечает, что мне лучше остаться с Мэйлахи и помолиться за душу умершего братика.
– Нет уж, – говорит бабушка. – Меня не проведешь. За душу двухлетнего-то младенца чего молиться? Он уже давно в раю с братиком играет. Бери сына с собой, он тебе напоминать будет, чтоб ты в такой день в пабе не торчал.


