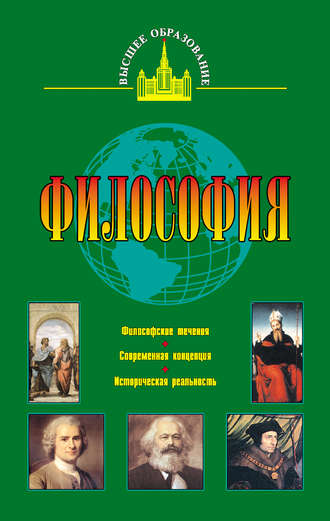
Г. Г. Кириленко
Философия
Учение Экхарта получает «второе дыхание» в пантеистических концепциях мыслителей и философов уже с XV века. Философски обоснованную интерпретацию учения впервые дал Николай Кузанский. Значительно позже, с начала XIX века, мистика пантеизма («я во всем и все во мне»), облагороженная художественным гением писателей, художников, композиторов, превратится в «свое другое» – в поэтическое мироощущение, дающее импульс к появлению шедевров в искусстве Гельдерлина, Э. Т.-А. Гофмана, Р. Шумана, Гете, У. Уитмена и многих других.
Философские идеи Возрождения
Философская мысль Возрождения представляет эпоху XIV–XVI вв. Эпилог приходится на начало XVII в. Кампанелла и Шекспир были последними представителями Возрождения. Философия этого времени противостоит системе схоластического знания. Она строится на иных основаниях, растет и развивается независимо от схоластической традиции. Почти так же будет развиваться новая европейская философия XVII века, связанная с зарождением математического и экспериментального естествознания, прежде всего – классической механики и новой механической картины мира.
XIV–XVI вв. – время, когда все в круговороте страстей, общечеловеческих побуждений и расчетов. В разных ситуациях люди выпутываются умом и личной сметкой. Ценится выше всего умелость: смех возбуждает неумелое ханжество монаха или наивность супруга. Идеал удачи царит над всем. Поклонение обычаю заменяется культом удачи. У Боккаччо, Саккетти, Джованни мораль всех новелл: скрытый грех наполовину прощен. Отсюда вытекает: достигать цели, не раздумывая над средствами, и скрывать пути, чтобы достичь цели наверняка.
XIV–XVI вв. – переходная эпоха от феодализма к капитализму, это время мануфактур, географических открытий, торговли, личной предприимчивости, высвобождения человека от сословных ограничений. Все это рождает в Италии новое качество культуры, известное под названием гуманизма, возрождения. Понятие «гуманизм» появляется в середине XV в. и означает то, что Цицерон и Тацит в свое время выразили термином «humanitas» – человеческий, человечный, образованный, т. е. качества свободного гражданина, необходимые для активного участия в жизни общества. Разрушение цехово-корпоративной структуры способствовало возникновению светской интеллигенции. Она складывается из купцов, знати, юристов, преподавателей, даже из ремесленников и крестьян. Так появляются кружки гуманистов, не связанных с университетами, где преобладала схоластика. Гуманисты-интеллигенты не связаны определенной профессией. Они представляют новую аристократию– «аристократию духа»; их этико-философской доминантой является стремление к синтезу духовности. Они все направлены на изучение классической древней (греческой и латинской) литературы, философии, которые становятся эталоном культурной деятельности.
Эпоху гуманизма называют также Возрождением (Ренессансом). Сами гуманисты, выражая свой порыв, говорили о «воскрешении, обновлении» образцов античного мира в противоположность средневековью, которое ими понималось как «время… бедных умами ученых» (Лоренцо Валла), как «время темного тумана», время грубости и несоразмерности (Дж. Вазари). Когда творческой дух Возрождения угас, понятие гуманизма осталось в культуре в качестве обозначения научных дисциплин, занятых осмыслением внутреннего мира человека. Так появляется термин – гуманитарные науки.
Мысль эпохи Возрождения направлена на постижение самого человека в его взаимоотношениях с миром. Божество не отрицалось, но земное заслонило его. И это нагляднее всего проявилось в живописи. Так, в «Крещении» А. Верроккьо, по словам искусствоведа Вельфлина, Христос выглядит как скромный учитель. «Бегство в Египет» – это и бегство, и путешествие в неведомые края. «Тайная вечеря» – это торжественная трапеза, за которой обнаруживается предательство одного из присутствующих. Постоянные сюжеты картин «Распятие», «Снятие с креста», «Оплакивание» – это неумолимая жестокость смерти, ее постоянное присутствие в жизни, горе близких, нежное сострадание женщин.
Специфическая черта философии Возрождения – деперсонализация Бога. Либо он растворен в природе («природа есть Бог в вещах», – повторял Дж. Бруно), либо мир погружен в Бога (Н. Кузанский). Такой пантеизм и гилозоизм наделял природу способностью к бессознательному творчеству, ее собственным «языком», понимание которого вселяло надежду на познание и изменение этого мира. Отсюда появляется «натуральная магия», весьма популярны астрология, алхимия.
Пантеизм и призыв к опытному знанию, сенсуализм и магия, обожествление природы и психологизм представляют собой черты единой традиции философии Возрождения.
«Первый философ Возрождения», по происхождению немец, Николай Кузанский (1401–1464), учился в Гейдельберге, затем в Падуанском университете, где приобрел друзей среди итальянских гуманистов. В начале своей деятельности он был поглощен делом гармонического устроения мира и церкви на началах любви, свободы и суверенитета «верующего народа», воле которого должен был подчиниться и сам папа. Однако в дальнейшем он отошел от своих полуутопических идей социального и религиозного единства Европы и человечества.
Николай Кузанский великолепно знал схоластику, был близок к мистике Мейстера Экхарта, усвоил философию античности и неоплатонизма, знал восточных Отцов церкви, профессионально владел математикой. Не изменяя традиции богословия, Николай Кузанский в то же время принадлежит уже будущей философии XVII–XX вв. Он предвосхищает Лейбница идеей равного онтологического достоинства всех вещей в мире; Канта – развернутой в «Науке незнания» системой космологических антиномий; Гегеля – триадным расположением мирового сущего; Гуссерля и Хайдеггера – учением о человеческой вселенной как априорной цельности.
В основе мироощущения Кузанского лежит божественное бытие-потенция как абсолютная возможность всего, которая парадоксальным образом есть и абсолютная действительность. Об этом всеобщем источнике и его творчестве можно что-либо высказать только в виде тоже «предположений» или «догадок», поскольку безграничность его проявлений все равно рано или поздно опровергнет любое частное утверждение, превзойдет любое определение: он все может, сам мир – произведение Бога. Личная потенция творца выступает как «форма форм», потому что образует образ любой конкретной вещи.
Например, когда Бог хотел открыть понятие о Себе, Он сказал: «Я Бог всемогущий» (Быт. 17, 1), «Я тот, кто есть» (Исх. 3, 1). Это означает, что Бог как абсолютная духовность есть действительное бытие всякой возможности. Кузанский поясняет: любая вещь существует благодаря своей оформленности. Заключается ли сущность вещи в самой вещи? Считать так – значит утверждать, например, что сущность руки заключена в самой руке. Но мертвая рука – не рука. Рукой ее делает жизнь в духе. Следовательно, сущность руки имеет более истинное бытие в душе, чем в ней самой. Но в мире все вещи единичны и конечны. Бог как сущность этого мира, как чистая духовность есть форма всех возможных форм, бытие всякой возможности. Значит, то, чего нет и что может быть, не обладает действительностью в конечной (видимой, осязаемой) вещи. Следовательно, чтобы приблизиться к сущности, Богу надо стать выше разума, рассудка, чувства, и тогда Он сам обнаружит Себя перед теми, кто ищет Его в вере. То есть человеку надо отвлечься от сиюминутного, зримого, слышимого, не бегать и не суетиться, а стать выше себя. В ситуации такой остановки и напряжения мысли появляется обостренное чувство сознания, приближающегося к сущности. Об этом сказано: «Остановитесь и познайте» (Пс. 4, 11). Противоречия между тем, что Бог как «абсолютная возможность» (невозможная возможность или возможная невозможность) называет Себя беспредикатным («Я есмь»), нет. «Я» Бога есть самообозначение, предполагающее «ты», то есть диалог, общение, в процессе которого появляются «он», «она», «мы», «вы».
Как связать единичность «Я» Бога с тем, что Он как сущее есть форма форм, с беспредельностью форм бытия? Кузанский говорит, что не следует смешивать эмпирически человеческое с запредельным божественным. Форме форм как беспредельному пределу соответствует не эмпирическая единичность, но «абсолютная единичность всех единичностей». Эта абсолютная всеобщность не просто совпадает с абсолютной единичностью, она сама в пределе есть «абсолютная единичность» (неединичная единичность, возможная невозможность). Именно это, по мнению Кузанского, имел в виду Дионисий Ареопагит: «Божье мы должны познавать не по человеческому обычаю, но целиком и полностью от самих себя отстранившись и всецело перейдя в Бога». В таком общении с Богом осуществляется полнота образа Божия в человеке – конечной цели богоуподобления, совершенного знания и совершенного человека. Поскольку Бог, создав человека, отделил, освободил его от Себя, говорит Кузанский, постольку сам акт Его творчества был призывом к диалогу, свободному активизму, сотворчеству. «Человек, – говорит философ, – может познать иное, только полностью отрешившись от себя». Это значит, что лишь когда человек выходит за собственные рамки, отказывается от себя, своего маленького «я» (собственной точки зрения, мироощущения, пристрастий), – тогда он способен к тому, что принято называть творчеством. То, что говорит Кузанский, является как бы развернутой программой и путем глубочайшей внутренней интеллектуальной работы человека в целях собственного преображения.
$$$В философии Кузанского бытие и свобода предельно конкретны, поскольку подлинная жизнь человека начинается в будущем, а настоящее и прошлое раскрываются только в связи с ним. Бог Кузанского, не имеющий никакого конкретного образа, постоянно обращается к каждому человеку, требуя однозначного ответа на вопрос о смысле его бытия, его жизненной программы. Для самого человека в такой ситуации должно стать очевидным, что его собственное будущее «отсылает» к прошлому, прошлое – к настоящему и оттуда – опять в будущее. В учении Кузанского о человеке жизнь не дается готовой, она богата необычайными возможностями, позволяющими многое сделать для себя, для других, «во имя Бога». Поэтому человек, как считает философ, живет здесь, в этом мире, осуществлением возможностей в кругу невозможного. Говоря языком науки конца XX века, учение Кузанского о человеке есть «философия нестабильности», синергетика[46] как творчество в ситуации устойчивой неустойчивости личности, живущей в земном мире. Кстати говоря, ныне модное понятие синергетики заимствовано из учения о человеке Дионисия Ареопагита (VI в.).
Идеи Кузанского непосредственным образом повлияли на натурфилософию Джордано Вру но, который с энтузиастическим восторгом ставил его «выше Пифагора, Коперника и Аристотеля». Крупнейший деятель эпохи Возрождения Дж. Бруно (1548–1600) продолжил традиции вольномыслия итальянских гуманистов в философии природы, в натурфилософии. Важнейшее положение, сформулированное Бруно, состояло в утверждении бесконечности природы. Бесконечное могущество Бога, по Бруно, не может ограничиться созданием конечного мира. Бесконечные свойства Бога Кузанского превратились у Бруно в бесконечность природы. Однако учение о бесконечности природы у него, в отличие от Кузанского, не осталось лишь умозрением. Опираясь на открытие Коперника, Бруно стремился дать физическую и астрономическую конкретизацию этого натурфилософского принципа. Переосмысляя теорию Коперника, Бруно освободил ее от традиционных представлений о конечности мироздания, замкнутого сферой неподвижных звезд, от взгляда, согласно которому Солнце составляет абсолютный центр Вселенной, а потому неподвижно. Развивая идеи Кузанского, Бруно доказывал, что любое небесное светило можно рассматривать в качестве центра мироздания потому, что он находится повсюду и – нигде, то есть обосновывал идею бесконечности Вселенной.
Формообразующее активное начало, считал Бруно, имеет своим источником материю. Но материя – это не просто источник деятельности. Ее развитие подчинено закономерностям, развертывающимся из некоего единого субстанционального принципа через многочисленные диалектические переходы, борьбу противоположностей, являющихся результатом деятельности «мировой души». Опираясь на гилозоистские представления, Джордано Бруно делает вполне конкретные выводы о необходимой заселенности иных миров, о характере движения небесных тел. Такого рода одушевление природы помимо влияния определенных тенденций античной философии имело под собой скрытое стремление не просто приблизиться к недоступному Богу, в лучшем случае позволяющему созерцать свое совершенство, а овладеть субстанциональными началами природы в целях ее практического использования.
Само понимание природы как единства противоположных начал добра и зла (Я. Беме), единичного и всеобщего (Т. Кампанелла), тепла и холода (Б. Телезио), очень близко к диалектике древних, однако акценты здесь расставлены иначе. Диалектические переходы в сочетании с гилозоизмом, с одушевлением природы и стремлением овладеть этой неуловимой, постоянно меняющейся «душой» вещей приводят к своего рода магии противоположностей… «Кто хочет познать наибольшие тайны природы, – пишет Бруно, – пусть рассматривает и наблюдает максимумы противоположностей и противоречий. Глубокая магия заключается в умении вывести противоположность, предварительно найдя точку объединения»[47]. В этой нацеленности на познание сути вещей – одна из величайших заслуг лучших представителей философии Возрождения. Однако стремление овладеть диалектикой противоположностей было весьма прямолинейным и зачастую оборачивалось попытками непосредственно воздействовать на субстанциональную основу вещей, которая представлялась им одушевленной, родственной человеку – «микрокосму». Не случайно многие мыслители Возрождения занимались астрологией, ятрохимией, каббалой, различными видами «натуральной магии». Подобно натурфилософским системам прошлого, значимость философии в этот период также определялась построением всеобъемлющей закономерной структуры бытия, истинность которой обосновывалась «божественными прорицаниями, геометрической необходимостью, философскими доводами и очевидными опытными данными». Но если натурфилософия, философия природы древних являлась симбиозом философских положений, умозрений и наблюдений, то теперь сюда присоединяется еще один компонент – решение практических задач. Известная идея древних о соответствии микрокосма макрокосму приобретает особое звучание: универсальные философские законы пронизывают любую частицу бытия, они неотделимы от частного, «отдельного» существования. Естественным следствием такого хода мысли оказалось прямое, минующее весь сложный путь овладения объектом воздействие на «философское всеобщее» через ту конкретную форму, в которой оно себя проявляет. Это обратная сторона натурфилософского мышления, ведущая уже к прямому вмешательству философии в ход экспериментального действия. Опыт (эксперимент) оказывается лишь символическим выражением преобразования не самих материальных сил, а стоящих за ними мировых сил. Философия природы теперь стремится распространить свое влияние не только на построение картины мира, но и на саму опытную основу знания, поэтому мистически трактуемый опыт переплетается с реальными опытными исследованиями. Примеры этому можно найти не только у Бруно, но и в работах Везалия, Сервета, Кеплера.
Замечательный итальянский гуманист Пико делла Мирандола (1463–1494) стяжал славу самого образованного и всеобъемлющего ума своего времени. Мечтой мыслителя, так и не осуществленной, было показать единство двух основных школ древнегреческой философии – платоновской и аристотелевской. Философия Мирандолы была творческим обобщением лучших традиций античной христианской, арабской мысли (он знал 22 языка), а также еврейской и восточной мистики. Если Фома Аквинский дал философско-религиозный синтез средневековой культуры, то Мирандола – ренессансной. Аристократ по рождению, мыслитель писал о безмерных творческих возможностях человека, о ценности и неповторимости личности, защищал право на свободомыслие, призывал к духовному развитию всех людей, независимо от происхождения и социального статуса. Разрушая божественный детерминизм средневековья, Мирандола высвобождал волю человека, награждал ее свободой, достойной земного бога.
Учение о человеке Мирандола пытался обосновать в «Речи о достоинстве человека», прославившей его среди современников и оказавшей влияние на формирование гуманистической мысли XVI века. По мысли философа, Бог, сотворив человека, специально дал ему «неопределенный образ» и, поставив в центр мира, сказал: «Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные….О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, что пожелает, и быть тем, кем хочет!»[48]. Человек у него есть связующее звено между материей и духом, он – узел мира, способный возвыситься к Богу или опуститься до состояния животного. Природа человека не определена изначально и этим близка к природе Бога. Высшее предназначение человека – насладиться величием мироздания. Достижение такого счастья невозможно без философии. «И если ты увидишь философа, все распознающего правильным разумом, уважай его, ибо небесное он существо, не земное. Если же видишь чистого созерцателя, не ведающего плоти и погруженного в недра разума, то это не земное и не небесное существо. Это – более возвышенное, божественное, облаченное в человеческую плоть»[49].
Смещение акцента с теологии на философию, на науку, восхвалению которой посвящено немало страниц, оказывается закономерным завершением рационалистических тенденций в возрожденческой мысли XV века. Достоинство человека, по Мирандоле, проявляется только в свободной деятельности разума на путях науки и знания. Для самого философа целью жизни было отыскание единой истины, источником которой могли служить совершенно разные религиозно-философские системы. Поиски единой истины покоились на убеждении в единстве и универсальности логоса, т. е. слова, доступного знанию, интерпретации. Главное было найти «ключ», метод к постижению логоса. Поэтому Мирандола искал его в символике каббалы, в мистике пифагореизма, в античной и средневековой мысли. Много времени он посвятил магии, которую считал практической частью науки о природе, «завершающей ступенью философии природы».
Космологические идеи Мирандолы проникнуты пантеизмом, отчетливо просматривающимся в его произведениях «О Сущем и Едином» и «Гептапл». Бог как некое единство и абстрактная целостность присутствует повсюду и не локализован. Он есть все, но – вне этого мира. Как «чистое существование» Бог исключает всякую определенность, поэтому Он непознаваем. Сам мир, одушевленный неким разумным началом, может быть познан. «Повсюду, где есть жизнь, – там есть и душа, а там, где душа, есть и разум». Числа-принципы заключены в душе, разумно оживляющей мир. Душа человека, равнозначная по своей рациональной сущности душе мира, в общении с вещами раскрывает их смысл.
Уже в середине XVI в. начинают проявляться первые признаки краха ренессансных надежд. Все чаще в размышлениях гуманистов, в искусстве звучат трагические нотки, свидетельствующие об ощущении утраченных иллюзий.
Пантеистическое мироощущение способствовало утверждению идеи о нераздельности души и тела, личности и индивидуальности. Вместо царства Божия все более выдвигалась идея «царства человека», которому доступно мировое могущество. Даже ангелы созданы для служения людям. Человек в понимании гуманистов – деятель, творец, созидатель. У Маккиавелли (1469–1527) часто встречается термин «фортуна», т. е. обстоятельства, в которых живет человек и с которыми он должен бороться. По Маккиавелли, фортуна, судьба, обстоятельства властны над человеком лишь наполовину, влияя на ход событий, так что человек должен и может бороться с ними. Поэтому результат во многом зависит от человеческой энергии, таланта. Нельзя терять время. Необходимо постоянно улучшать собственную природу, ибо «Бог раздает людям время как деньги, строго затем заставляя отчитываться за него» (Манетти).
Культ времени, культ человека ведет к гуманистическому индивидуализму. Выдвинутый Лоренцо Валлой этический принцип, отождествляющий наслаждение с полезностью, основывается на идее гармонии человека и природы, индивида и общества. Полезность – естественная цель действий человека, всей его жизни и в то же время – важнейший критерий его поступков. Жить добродетельно – значит жить с пользой для себя. И хотя, по мысли Баллы, люди, если они не злодеи и не глубоко несчастны, не могут не радоваться благу другого, он сам же пишет: «Я нисколько не обязан умирать ни за одного гражданина, ни за двух, ни за трех и т. д. Почему же я обязан умирать за отечество, которое состоит из всех этих граждан?» Так принцип пользы, столкнувшись с идеей общественного блага, рождает индивидуализм.
Основные иллюзии Возрождения – убеждение в величии человека, вера в рациональное объяснение красоты, попытка объединения религий – к XVI веку в значительной степени оказались утраченными. Скептические настроения сменили веру в безграничные возможности человека-Бога. Единство Бога, человека, государства, искусства уже представляется недостижимым. Гуманистический индивидуализм обернулся ничем не прикрытым эгоизмом. Философская эссеистика М. Монтеня – это осмысление Возрождения как неудачи и одновременно – ренессансная попытка увидеть величие человека в его одиночестве, противоречивости, смертности.
Французский философ-гуманист Мишель Монтень (1533–1592), «самый несистематичный из философов, но самый мудрый и занимательный» (Вольтер), через века пожимает руку каждому, кто, живя в пространстве общепринятых («узаконенных» традицией, временем, авторитетами) вещей, начинает вдруг задавать совершенно наивные, а потому с точки зрения большинства абсолютно несуразные, «глупые» вопросы:
Почему в процессе обучения «нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышим».
Почему тот, «у кого тощее тело, напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот раздувает ее словами».
Почему говорят, что «человек – существо совершенное», тогда как «картина государственных смут и смен в судьбах разных народов учит нас не слишком гордиться собой» и не внушает особого оптимизма.
Почему «философия – мудрость жизни», тогда как «вокруг нас царит безнаказанность и распущенность».
Почему «наиболее высокого положения достигают обычно люди не слишком способные и судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных». Почему «высшим показателем истины считается большое число верующих в нее, в котором глупцы имеют превосходство над умными».
Почему, «несмотря на то, что смерть везде и всюду та же, крестьяне и люди низшего звания относятся к ней много проще, чем остальные», как «преодолеть страх перед смертью и спокойно отойти в иной мир, где нас ожидает столь отменное общество»[50].
Перечисление лишь немногих вопросов, над которыми размышлял Монтень, позволяет узнать в нем то, что живо сейчас, сегодня. Потому что предмет его мысли – вполне реальный человек, который, попав в этот мир, какое-то время живет, что-то делает и «умирает так и не научившись себя понимать».
Монтеня всегда беспокоила «тайна» человеческой жизни, заканчивающейся загадкой смерти. Без каких-либо религиозно-мистических прогнозов, но «со смертью в голове», Монтень думает «вслух» о человеческой жизни. Он не лукавит, когда пишет: «Я хочу, чтобы меня видели в простом, естественном виде, непринужденном и безыскусственном, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого». Размышления о человеческом существовании «отливаются» в форму литературно-философской эссеистики его «Опытов». Монтеневское «я рисую себя самого» означает осуществление нового типа рефлексии, уходящей от спекулятивных умозрений в сторону философии жизненной, «практической», приподнимающей человека над повседневностью и помогающей ему найти собственные ориентиры в мире социальности.
«Опыты» – своеобразная исповедь автора, которой можно найти аналогии (но не более) в истории философии. Например, «Исповедь» Августина Блаженного – такое же мышление «вслух», конструктивным принципом которого является: «я наедине с собой перед Богом». В процессе опыта собственных поисков, метаний, смятений Августин как бы «дорабатывается» до философствования по поводу вопросов человеческого бытия. У Монтеня дело обстоит иначе. Принцип его исповеди: «я наедине с собой перед другими» – означает артикуляцию его собственного философского акта, длящегося в пространстве трех томов его «Опытов».
«Я наедине с собой…» Монтеня означает, что его «я» говорит о себе и выставляет себя на всеобщее обозрение заведомо в связи и сопряжении «с другими». И если «я» желает сказать нечто важное для других, но открывшееся ему, оно должно избавиться от собственных психологизмов, с тем чтобы перейти в иное пространство «чистой» мысли (без субъективных довесков, симпатий-антипатий и т. п.). Для этого мыслящее «я» как бы приподнимается над собой. Противостоя себе же, оно одновременно противостоит и множеству других «я». Таким образом, монтеневское «я наедине с собой…» содержит в себе собственную противоположность: «я наедине с собой против себя и других». Процессуально совершающийся «здесь и сейчас» акт такого письма и говорения обозначает собственно философский акт мыслящей себя мысли «вслух»: «я наедине со всеми».
Но поймут ли другие помысленную мной новую мысль; ведь для меня самого, как бы я ни сказал, это будет неадекватно моей же собственной интуиции. К тому же, по убеждению мыслителя, большинство людей просто не желает думать и довольствуется верой в то, что это же самое большинство «предпочитает считать истиной». Поэтому Монтень приглашает «увидеть» в своих рассказах «семена мыслей более богатых и смелых», доступных лишь тем, кто «способен их уловить», поскольку сам автор «не желает о них распространяться». Такая установка сознания: «говорю, но не могу сказать всего, что знаю», возрождает полузабытую античную традицию «сознательного недоговаривания» и «открытости» философии для последующих интерпретационных актов. На такую традицию письма и говорения будут ориентироваться такие совершенно разные философы, как Декарт и Шеллинг, Фихте и Ницше, Бергсон и Бердяев. И только в XX веке безупречно прозорливый Хайдеггер объяснит, что «открыть и утаить» – нераздельные аспекты одного и того же акта мысли.
Размышляя «наедине со всеми», Монтень совершает мгновенные «скачки» в греческую, римскую античность, во времена недавние и – обратно к себе во Францию. Демосфен и Цицерон, Сократ и Плутарх, Тертуллиан и Франциск Ассизский, а также многие другие – для него друзья и доброжелательные оппоненты. Тем самым Монтень не только восстанавливал уже изрядно разрушенную связь времен, но и закладывал современные нам традиции мысли, для которой история философии – не склад древностей. Это история гениальных интуиции, взлетов, падений и часто просто ошибок человеческого разума, о которых необходимо помнить. На стене кабинета Монтеня было начертано: «Что знаю я?» За этим стоит вовсе не стремление к энциклопедизму знания, хранящегося в библиотеке, и не желание узнать, чтобы следовать узнанному. «Что знаю я?» – прием мысли философа, который, соприкоснувшись с вечными вопросами человеческого существования, заново проигрывает все существующее знание так, как будто эти вопросы никогда не имели опыта своего решения. Сам Монтень весьма иронично относился к тем «достойным людям», для которых «пробным камнем и основой собственного мнения и всякой истины» является их согласие с чьим-либо авторитетом.
Монтень жил в эпоху разрушительных войн и усиливающейся жесткой регламентации всех форм социальной жизни. Поэтому он писал: «Величайшее недомыслие учить наших детей… науке о звездах и движении восьмой сферы раньше, чем науке об их собственных душевных движениях». Главное в человеке – стремление жить. К сожалению, жизнь большинства «оказывается праздной тратой времени» на то, чтобы «иметь общую осведомленность» о вещах ненужных для самого человека, но дающих ему веру, «во что должно верить», и заставляющих делать то, что «надо делать». «Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу»[51].
Монтень впервые обнаруживает последствия возрожденческой культуры как новой социальности – расхождение между тем, что предписано делать человеку (и он делает это) в пространстве всеобщего социального активизма, и тем, чем он на самом деле является. Отделяя свое «я» от предписанной, «заданной» социальной роли, философ пишет: «Нужно добросовестно играть свою роль, которую нам поручили, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое – своим. Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою лицо, не посыпая ее одновременно и сердце… Господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегала отчетливо обозначенная граница»[52].
Оказывается, играя «роль» в «спектакле» общественной жизни, важно не перепутать себя с ролью. Интуиции Монтеня открылось то, что анонимность новой социальности предъявляет к человеку требование быть такой же анонимностью. Если человек не научен отделать себя от «роли», он постепенно сливается с ней и становится «статистом» в спектакле жизни. Бессмысленность индивидуального существования, по Монтеню, заканчивается такой же бессмысленностью смерти.
Занимаясь, по собственным словам, «наукой о человеке» (что он есть и чем должен быть), Монтень высказывает ряд идей, которыми позже восторгались Вольтер, Руссо, Толстой. Мысль Монтеня балансирует на грани собственно философской рефлексии и педагогики. Но это не философия педагогики, скорее – общение мыслителя с человеком, стремящимся к осмысленности собственного существования. Так, например, для проверки собственных поступков он советует «прикладывать к ним наиболее полезные философские вопросы», в частности: «Что дозволено тебе желать; чем жертвовать для своей родины и близких; что ты есть на самом деле и чем являешься среди людей; для чего ты живешь». Однако, между прочим замечает Монтень, не следует тут же рассчитывать на однозначный ответ; такое «прикладывание… означает только одно: знать и не знать». Монтень тем самым ненавязчиво говорит о том, что нет и не может быть окончательных «одноразовых» ответов на смысло-жизненные вопросы, которые постоянно задает себе человек. Каждый такой вопрос к себе рождает новые вопросы. Шаг за шагом, имея в виду нечто совершенно конкретное, мысль, развиваясь внутри себя, «достигает изумительной ясности». Иначе говоря, только усилием самостоятельной мысли, сомневающейся и ищущей, «удивляющейся и просветляющей ум, а потому приносящей радость», человек приближается к осмысленности собственного существования. По Монтеню, каждый акт такой мысли является философским актом. Мы же, говорит он, «погружены в себя, замкнулись в себе, наш кругозор крайне мал, мы не видим дальше своего носа».



