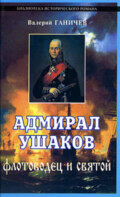Валерий Николаевич Ганичев
Росс непобедимый...
ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ЕДИНОВЕРЦЫ
Все малые и средние Ионические острова в октябре и ноябре 1798 года были взяты объединенной русско-турецкой эскадрой. Французы сопротивлялись недолго. Мощная русская артиллерия, молниеносные штыковые атаки, устрашающий вид турок и море повстанцев делали свое дело. Гарнизоны Китиры, Закинфа, Кефаллония, Левкаса и других островов капитулировали. Перед эскадрой оставалась одна крепость. Одна, но какая! Бастион Франции в Средиземноморье, база египетской армии Наполеона, опора Директории между Апеннинами и Балканами. Цену ей знали как французские власти, так и новые союзники. И тем желаннее было господство над ней.
Генеральный комиссар Франции Дюбуа объявил осадное положение, гражданское управление было распущено, был срочно создан комитет общественного спасения только из французов. Генерал Пиврон, возглавивший его, разделил сферу обороны и сферу внутренней безопасности, передав заботу о возмущенных греках Военному комитету по делам о государственной измене. Треск ружейных выстрелов, осевшие в лужи крови тела у крепостных стен подвели черту под революционными фразами директорийских военных. Корфиоты окончательно переходили на сторону союзников.
…В адмиральской каюте у Ушакова собрались русские командиры кораблей и руководители греческих повстанцев. Турецких союзников не было. Решили сегодня посоветоваться, узнать возможности мятежных корфян.
Тут был и недавно прибывший с эскадрой из Ахтияра контр-адмирал Павел Васильевич Пустошкин, капитан первого ранга, командир «Святого Петра» Дмитрий Николаевич Сенявин, командиры русских линейных кораблей и фрегатов капитаны второго ранга Григорий Тимченко, Иван Селивачев, Тимофей Перский, Александр Сорокин и другие высокие и менее высокие чины русского флота. Морские командиры похлопывали друг друга по плечам, вспоминая боевые эпизоды, громко говорили, не особо заботясь об этикете, заразительно смеялись и шутили с греками, которые почти все знали русский. Да и немудрено: большинство из них прошло службу в русской армии. Вон стоят два высоких статных красавца капитаны первого ранга Алексиано и Сардонаки. Последнему сам Ушаков поручил ныне командовать флагманским кораблем «Святой Павел». Доверие безграничное. А доверял седой адмирал не сомневаясь, ибо знал бесконечную преданность греков России, их тоскливую надежду на избавление с ее помощью. Вот эти – изящно одетый, энергичный, подвижный Булгарис и уже старый, дряхлый граф Макрис, с острова Закинфа. Он еще в экспедиции Алексея Орлова участвовал, увлек за собой тогда две тысячи ополченцев. А напротив, в толпе незнатных, стоит живо жестикулирующий аптекарь, который тоже служил в России и был первым, кто выбросил русский флаг и с возгласом «Да здравствует Павел Первый!» повел за собой толпу на этом же острове.
А рядом отставной русский майор Георгиос Палатинос, тоже воевавший в последней войне, а ныне волонтером пребывающий на «Святом Павле». С ним отличившийся в боях на Китире отставной капитан Киркос.
Особо много было в этой экспедиции в составе русского флота кефаллиниотов. Графы Метаксы, имевшие там владения, приписывали это своей пропаганде. Но было это не совсем так. На Кефаллинии жило тридцать отставных офицеров русской службы. Вон стоит лейтенант Глезис и капитан-лейтенант Ричардопулос – говорят молодо, задиристо. А ведь Измаил брали с самим Суворовым. Офицеры рассказывали Сардандинаки, как, уйдя в отставку, по утрам поднимали у своих домиков маленький андреевский флаг, а по вечерам в окружении восторженных мальчишек вели беседы, вспоминая о своих истинных и мнимых подвигах. Или же все вместе собирались в винной лавке у купца Аврамиотиса, где, подогреваемые красным вином и по русскому обычаю не разбавляя его, громко говорили о славных победах и скором приходе сюда «дяди Ивана». Лавку обходили стороной не только местные «карманьольцы» – сторонники Франции, но и патрули солдат Директории, зная буйный нрав отставных офицеров русской службы.
Удивительное это и трогательное явление – греческие добровольцы на русской службе. Большинство из них пошло, уже имея некоторый морской и военный опыт, другие учились в знаменитом Корпусе чужеземных единоверцев в Петербурге, где и было подготовлено немало морских офицеров. Греческие добровольцы верили, что победы России были победой их веры, их победой. Они хотели, жаждали, стремились к службе в русском войске. Они были храбры, неподкупны и очень полезны во время боевых действий, ибо знали Средиземное и Черное моря, знали все бухты и укромные укрытия, где сотни, а может быть, и тысячи лет назад прятали свои сокровища, сберегали жизнь ближних их предки. Они знали врага России – Турцию. Это был их враг. С недоумением приняли нынешний союз, но не отчаялись, ждали своего часа.
Обстрелянные турецкими пушками, осыпанные державными почестями России, они подолгу оставались на службе, тоскуя и скорбя о своей родине и о близких.
Но вот снова повеяло пороховым дымом, пахнуло грозой войны, и потянулись на русскую эскадру бывшие ветераны. Уже давно увидели они в Директории очередного тирана и поработителя.
Ушаков зашел, поздоровался и сразу увидел, что греки заметно разделились на две группы. В одной – хорошо, со вкусом одетые нобили, а в другой – разномастные, с голубыми косынками на груди представители других сословий. Адмирал, как бы объединяя их, обратился к тем, с кем бывал в баталиях, кто уже воевал под флагом империи.
– Как, господа, зажили ваши раны российских походов?
Ветераны выступили на полшага вперед, зашумели:
– Те раны нам награда! А непрестанная боль в сердце от врагов наших. От пьющих кровь венецианцев, разбойных французов. – И уже тише добавили, зная союзные обязательства: – От кровавых османцев страдаем и кровоточим.
Вперед выступил священник, в длинной черной рясе, приехавший из Китиры. Ушаков вспомнил, что это Андонис Дармарос и он уже виделся с ним у острова, когда тот в составе делегации жителей заявил, что «все островские жители охотно желают и готовы оказывать всевозможную соединенным эскадрам помощь».
Священник дождался тишины и неторопливо сказал:
– Наши соотечественники знают, что единая защита и надежда – ваша великая держава. С утренней молитвой гречанки обращают свой взор на север! С надеждой на лучшие дни смотрят туда землепашцы и священники, судовладельцы и моряки! Только Россия может дать нам свободу и защитить веру!
– Мы ваши друзья! Но не будем забывать, что еще недавно здесь кое-кто ставил свечку Бонапарту. А после взятия Мальты некоторые молодые люди подались в греческий легион его египетской армии.
Лейтенант Глезис, вроде бы защищая честь земляков, быстро проговорил из-за спины священника:
– Немногие! А среди них были и искатели приключений, и те, кто здесь отчаялся получить свободу. У многих потом после поборов и налогов, которыми их обложил генерал Жантильи, головы протрезвели.
Георгиос Палатинос язвительно добавил:
– Да и граждане высшего класса вели себя часто недостойно. Им следовало бы поучиться у простых пахарей, которые бросали все и шли на приступ крепостей, не жалея жизни.
Не поворачивая головы, холодно и небрежно, как подобает говорить истинному нобилю, граф Сикурос ди Нартокис заметил, глядя на Ушакова:
– Кому нечего терять, тот спешит потерять голову. Многие шли на французов, имея в виду чужое добро. Посмотрите, что творится кругом. Горят дома, на улицу невозможно выйти. Чернь требует имущества и власти! Надо немедленно учреждать законную власть.
Греки еще более четко разделились. Одни отжались к Сикуросу и подошли ближе к нему, другие встали рядом с Палатиносом, который нервно крутил кончик пояса. Лишь Дармарос остался посредине, не совершив шага ни влево, ни вправо.
Ушаков поднял руку, внимательно вглядываясь в лица, оперся на подзорную трубу и густым крепким голосом пророкотал:
– О власти мы с вами, господа, поговорим позднее. А я всякое данное мною слово стараюсь сдержать верным. И хотел вас просить оказать всяческое содействие во взятии Корфу. Командиром повстанцев назначаю графа Булгариса и в знак его заслуг перед Россией, которой он почти тридцать лет служил, произвожу его в бригадиры. От наших совместных дел зависит виктория над неприятелем и возвращение независимости. Прошу вас соединить все силы для сего великого дела.
Греки снова как-то незаметно подвинулись и соединились через седого чернорясого Дармароса, составив единую группу.
ВО ДВОРЦЕ БЕЯ
Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились.
В его главе – орлы парили,
В его груди – змии вились…
Ф. Т ю т ч е в
Казалось, Каир был полностью во власти французов. Наполеон торжествовал. Он сделает из него центр великой культуры, центр и столицу французской колонии. Уже создавался Египетский институт – этот очаг наук здесь, на Востоке. Его бывший школьный товарищ возводил в центре города, к радости офицеров и солдат, египетский Тиволи. Здесь будет кипеть веселье, уже крутится карусель, вздымаются качели. А там, подальше от центра круга, готовятся деревянные кони и на недостроенном помосте играет военный оркестр.
Селезнев дивился этому умению французов везде устраиваться красиво, с комфортом, после дел полностью отдаваться отдыху и веселью. Он да, пожалуй, и большинство его соотечественников, не умели так. После сделанного он еще долго мучился, думал, правильно ли поступил, осуждал себя за промахи, а тут и новое дело наплывало. Вот и сегодня он хмурился, задумывался, хотя пришел сюда, в этот каирский Тиволи, чтобы развлечься, поесть мороженое, которое по настоянию Бонапарта продавали во всех углах. А хмуриться он не имел права еще и потому, что с ним рядом шла замечательная девушка Милета – патрицианка и революционерка, сторонница свободы республики Ионических островов и Великой Эллады, участница греческого легиона, действовавшего в армии французов. Услышав о великом походе Бонапарта, она снарядила торговое судно отца и кинулась вслед флоту Великой экспедиции. Она горела идеей повернуть суда на Грецию, войти с покорителями Италии в Константинополь, освободить от тирании Элладу, принести ее жителям равенство и свободу. Армию Бонапарта и греческий легион Милета догнала лишь в Каире. Ее мечты были благородны и достойны века. Однако флота французского к тому времени уже не было, хотя щепки от него и прибивались волнами к морскому берегу Пелопоннеса. Нельсон под Абукиром оставил от французского флота лишь воспоминания. Милета поняла, что ее первая мечта растаяла, и решила бороться за просвещение своего народа. Здесь при оборудовании типографии в Научном институте и встретил ее Селезнев. Милета, часто спокойная и задумчивая, вдруг вся наполнялась живостью и внутренней энергий. Ее горение, знания, устремленность, красота удивили и поразили Селезнева. Ведь он знал женщин, которые обладали многими из этих качеств, но не соединяли их вместе. Они были тоже красивы, милы и не бездеятельны, но бежали от обыденности и страдания.
Красота Милеты не боялась жизни. Ее глаза видели весь мир, сердце чувствовало горе ближнего. Черты ее лица напоминали камею и, казалось, вырезаны были из мрамора. Но особенно поражали ее глаза – одновременно серые, бирюзовые и желтые, с большими черными зрачками, мерцающими светом далеких времен. Когда Милета говорила особенно вдохновенно, ее глаза, казалось, занимали треть лица, пылая святым огнем. Селезнев думал, что вот так, наверное, зажигали на подвиг против тиранов и врагов нерешительных афинян их жены и сестры.
Он тайно восхищался ею и был готов всегда оказаться с ней рядом. И вот уже и сам горел священным огнем ненависти к поработителям Греции и восхищался свободолюбием и возвышенностью Древней Эллады. Она горячо настаивала на публикации книг, воззваний на греческом языке.
– Греция принадлежит Средиземному морю. Ее народ угнетен. Он впал в опасный сон самосохранения. Если не разбудить его, он отуречится, растворится, совсем забудет великие идеи Эллады. Сейчас здесь, в Средиземном море, решается судьба свободы в Европе. Тирания или вольность! И мы должны помочь выбрать грекам вольность.
Селезнев не возражал. Он кивал и с внутренним восхищением слушал свободную и страстную речь гречанки. Он уже слышал от Милеты, что греческая типография оборудуется в Александрии, а на Ионических островах, где идет борьба между низшим и высшим классом, ждут книг, прокламаций и воззваний на греческом языке.
– Однако, друг Селезнев, вы сегодня невнимательны и задумчивы. О чем думаете?
– Да о многом, Милета! Я думаю, а чем помогаю своему народу здесь, в этих песках? И есть ли польза от меня на этом свете.
– О! Эти мысли приходят и мне. И я хочу скорее возвратиться на Корфу. Любовь породила людей, справедливость должна окружить их, а братство и дружба должны возродить жизнь в ее полноценности.
– И я уже хочу в Россию, но не знаю, как примирить свой разумный идеал с неразумной действительностью. Да мне и не с чем возвращаться туда. Я, кажется, не смогу привезти туда ни новых идей, ни войск. Любые войска там погибнут, а идеи могут жить только близкие народу. – И он резко переменил тему разговора. – Посмотрите! Что это?
На площадь, на которой собралось много каирцев, вступила колонна, во главе которой шли французские офицеры, а за ними, подгоняемые солдатами, ишаки с мокрыми мешками, из которых что-то стекало на дорогу. За колонной шла рыдающая толпа женщин и детей. Замыкала шествие группа французских кавалеристов. В центре площади колонна остановилась. Селезнев и Милета подошли поближе. Забили барабаны. Толпа зарыдала еще громче. Погонщики ишаков отвязывали мешки и, отвернувшись, вываливали содержимое на землю. Из мешков покатились обвязанные чалмами и обнаженные, лысые и с густой шевелюрой головы. А потом снова раздался женский плач.
– Так будет со всяким, кто будет покушаться на французских солдат! – грозно выкрикнул офицер, переводчик перевел.
– Боже! Я видела уже это в Греции, когда турки вырезали мирных жителей, но те же – варвары! А вы солдаты революции и свободы!
– Но, гражданка, мы же должны образумить непокорных, – несколько смущенно пожал плечами офицер. Милета, закрыв глаза ладонями, быстро побежала.
…Следующий раз Селезнев встретился с ней на приеме, который проводил Наполеон во дворце Эльфи-бея. Приглашены были ученые, военные, местные богатеи и несколько женщин. А их так не хватает боевому воинству Бонапарта. Лишь наиболее храбрые из представительниц прекрасного пола, надев солдатский мундир, пробрались за своими возлюбленными в Египет. И тут уж они были вознаграждены за свое бесстрашие всеобщим обожанием.
Милета появилась во дворце позднее. Селезнев пришел, не особенно заботясь о туалете. Он знал, что революционные генералы и офицеры, за исключением Наполеона, относились к одежде презрительно.
Селезнев представился и пошел на второй этаж, где в гостиной любил вести беседы Наполеон. Там снял по восточному образцу башмаки и присел с краешку, где на коврах сидели гости. Беседа, судя по всему, уже заканчивалась. Бонапарт, которого здесь звали султаном Кебиром, полулежал и, обращаясь к египетским беям, медленно говорил:
– Ведь и мы мусульмане! Не мы ли уничтожили папу, который проповедовал войну с исламом, и мальтийских рыцарей, которые безумно воевали с мусульманами? Пока существует всего две трудности, чтобы я и моя армия сделались мусульманами: первая – это обрезание, вторая – вино. Мои солдаты приучены к вину с детства.
Беи молчали.
Бонапарт положил руку на Коран и сказал:
– Клянусь… нашим… пророком: мы ваши верные друзья! Я приказал своим солдатам преследовать католических священников и поклоняться только муллам и раввинам! – Понял, что о раввинах сказал зря, и быстро заговорил о ценности этих земель: – Восток – вот великое место! Здесь живет 600 миллионов человек. Здесь можно совершить великие деяния. Мы не имеем намерения приобретать здесь территории, мы не стремимся унизить на берегах Нила полумесяц, а преследуем там английского леопарда и намечаем удар в его индостанское брюхо.
Беи молчали.
Глаза Наполеона возгорались.
– Мы на основе главных религий создадим здесь великую религию всех народов.
Беи молчали.
Наполеон вздохнул, сложил руки, встал и поклонился им:
– Прошу через тридцать минут в зал.
Командующий вышел через двадцать девять минут строгий, чистый, в военном мундире, в белых панталонах, ботфортах со шпорами и величественным жестом показал на дверь зала. Стол был накрыт по-европейски на пятьдесят кувертов. Повара блеснули в этот необычный солнечный день рождества. Четыре супа, два мясных блюда, двадцать закусок, четыре сорта салатов вызвали веселый блеск глаз не только у гурманов.
Селезнев был посажен рядом с говорливым художником де Ноном, а слева, к его радости, оказалась Милета. Она пришла в черном красивом платье с трехцветной кокардой в волосах. Когда все уселись, Наполеон встал, придавив зал своим взглядом.
– Граждане Франции! Воины! Ученые! Наши друзья! Сегодня, в канун старого 1799 года, мы не можем не задумываться над тем, кто мы. Пленники или победители? Обрек ли нас Абубакир на гибель или зовет нас к новым победам? Нет! Мы не сокрушены. Мы в Египте! Мы в Каире! – Бонапарт остановился, взглянул вверх и, как бы увидев там знамение, вдохновенно продолжал: – Перед нами маячат новые блистательные походы, грядут новые битвы; везде нам будет сопутствовать удача. Англичане заставят нас совершить более великие подвиги, чем мы предполагали.
Здесь, в победоносном для Франции месте, я объявляю, что мы выйдем скоро в новый поход. Мы разрушим походя Турецкую империю, вероломно нарушившую мир и трусливо бросившуюся в объятия Англии и России. Я создам на Востоке новое великое царство. – Он подумал и немного исправился: – Царство свободы. Мы достигнем Индии, и оттуда я возвращусь через Константинополь, Адрианополь и Вену, уничтожив и Австрийский дом! Мы даруем всем народам на нашем пути братство и помощь. Это откроет нам все границы и склонит перед нами все знамена!
В зале царила восторженная тишина. У многих навернулись слезы на глаза. Лишь Клебер нахмурился и, нервно постукивая ножом по тарелке, тихо сказал:
– Войско революции не жертва для приключений.
Наполеон быстро взглянул на него и с легкой улыбкой сказал:
– Кое-кто очень хочет есть. Я прошу вас приступить к обеду. Речей больше не будет.
Через мгновение за столом воцарился веселый шум, усиливающийся с каждым новым глотком вина.
– Генерал пьет только шамбертен. Это пяти-шестилетнее вино хорошо утоляет жажду. Он возит его повсюду с собой. Ну и, естественно, разбавляет водой.
Селезневу вино понравилось. Он вполуха слушал болтовню де Нона. Ему очень хотелось заговорить с Милетой, но она была увлечена разговором с Клебером, рассказывая ему о свободолюбивых традициях греков, о многоидейности Древней Эллады.
– Эллада прошлого – вот образец свободы и развития. Греки не терпели насилия, свобода была их богом. А боги были люди свободные. Они любили Красоту и Разум, они знали Просвещение и Труд. Они не склоняли голову перед деспотами, как их старшие братья-египтяне.
Генерал скупо отвечал:
– Я плохо знаю историю, но наш командующий предпочитает Рим с его легионами, миродержавием и космополитизмом. У него везде когорты, легионы, триумфы. Революционные праздники мы не отмечаем. Вот вздумали отметить старый Новый год.
Словоохотливый и бойкий де Нон, похожий на древнего сатира с толстыми губами, громко хохотал, набрасывал эскизы, подливал себе и Селезневу шамбертена, перебрасывался репликами с соседкой Наполеона.
– Кто эта женщина? – осмелился спросить Селезнев.
– О, вы не знаете? Это же знаменитая Беллилот! Ну, если вам ничего это не говорит, то могу сказать, что она жена офицера Фурэ Маргарита-Полина, модистка или швея из Каркасона.
– Как же она здесь оказалась?
– О, это замечательная история. Юная красавица надела мундир своего мужа и, добыв пропуск, в трюме прибыла сюда, в Египет. Здесь же такая красота в редкость. Швея стала нашей Клеопатрой, – ехидно улыбнулся художник.
Наполеон наклонился к Маргарите-Полине, чтобы налить ей воды из графина, но неловко выронил его и облил скатерть и ее платье. Громко сокрушаясь о неловкости, он увлек ее в свои комнаты, чтобы поправить беспорядок в ее туалете, совершенный по его вине. Все бывает и у генералов!
За столом на мгновение установилась тишина.
– А где же муж потерпевшей? – поинтересовалась Милета.
– Муж? Муж выполняет великое поручение генерала. 17 декабря он на Квебеке «Охотник» поехал доставлять депешу Директории. – Де Нон захохотал. – Я бы не советовал ему скоро возвращаться.
– Да, наверное, мужу было бы неприятно наблюдать это кудахтанье.
– Ну полноте, мадемуазель. Тут все полно приличия и рыцарской галантности. Для исправления туалета и для того, чтобы высушить платье, нужно не менее получаса. Генерал не любит долго возиться… с тряпками.
Милета больше не поворачивалась к услужливому суетливому художнику и обратилась без всякого перехода к Клеберу:
– Не знаю, хватит ли у вас, у вашего войска духа для утверждения революции?
– Да есть ли она? Жива ли она, наша революция? – горько ответил тот. – Когда я был последний раз в Париже, то видел сытых юнцов, издевавшихся над пролетариями, кричавших славу республике богачей. Роскошь дворцов снова била в глаза. А в хижинах, которым мы обещали мир, – снова уныние и нищета. Кто думает там нынче о принципах? Кто борется с безнравственностью и хищениями? Кто отстаивает идеал? – В его голосе была боль и горечь, он развернул стул к Милете и, тоскливо взглянув на нее, сказал: – Наш генерал, кажется, раньше всех догадался, что революция погибла. Поэтому он громче всех восхваляет ее и кричит о ней. Но солдаты верят ему. Правда, и они уже не свободолюбивые волонтеры. У них в обозах черные рабыни, верблюды, бурдюки, страусовые перья, кость, а кошельки набиты золотом. Тут уж не до революций. Поэтому одни со слезами тоски поют «Марсельезу», другие кончают жизнь самоубийством.
– Нет! Это неправда, – горячо запротестовала Милета. – Свобода должна жить, иначе мы погибли!
– Должна. Но, кажется, она остается только в виде идеала. – Генерал горестно вздохнул. – И мы должны за нее сражаться. Я не побоюсь отдать за нее жизнь, даже если революция уже погибла.
Дверь раскрылась, и в зал не спеша вошла ушедшая пара.
– Ну что я вам говорил, дорогие гости, – фамильярно стукнул Селезнева по колену де Нон и щелкнул крышкой часов. – Всего тридцать две минуты, а как все чистенько! Только личико чуть красненькое!
Но за столом, казалось, никто ничего не заметил.
– Надеюсь, вы не нарисуете меня в мокром платье, – хихикнула Фурэ, обратившись к де Нону.
– Нет, нет, мадам, вы будете сухенькой.
Прием продолжался.