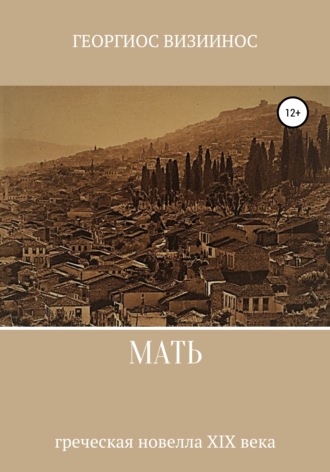
Георгиос Визиинос
Мать
Повесть
Кроме Анюты не было у меня сестёр, а в нашей маленькой и неполной семье именно она стала всеобщей любимицей. Больше всех её обожала мать. За столом всегда посадит подле себя, и доставались ей всякий раз самые лакомые кусочки. Одёжку мы с братьями донашивали из перешитых остатков, что перепали нам от покойного отца, но для Анюты мама непременно покупала новую. Да и по учёбе тоже не особенно её заставляла: когда есть настроение, Анюта ходила в школу, а если нет – мать запросто могла оставить её дома. Нам же этого ни при каких обстоятельствах не позволялось.
Такая исключительность должна была наверяка породить ревность у меня и моих братьев, к тому же на тот момент мы были ещё совсем маленькими, однако мы прекрасно понимали, что в глубине души мама каждого из нас нежно любит – всех одинаково и всегда беспристрастно. Мы даже и не сомневались, что все эти вольности были ничем иным, как внешним проявлением трогательной и естественной материнской заботы о единственной в нашем доме девочке. Оттого и речи не могло идти об обидах и каком-то безропотном с нашей стороны терпении, наоборот, мы всячески, насколько могли, потакали этим отношениям.
Существовала на то и особая причина: маленькая Анюта, к нашему огорчению, с самого рождения была хворой. И даже самый младший из братьев, осиротевший сразу же по рождении, так и не узнавший отца и точно заслуживающий большей, чем кто бы то ни было из нас материнской ласки и внимания, полностью передал сестре все свои привилегии и сделал это искренне и с радостью. Анюта же никогда не пользовалась этим преимуществом – не было в ней ни высокомерия, ни заносчивости, ни пренебрежения к нам. Напротив, всегда приветливая, она любила нас с восторгом и упоением. И, что самое удивительное, её нежные сестринские чувства не только не угасали по мере истощения её физических сил, но неизменно крепли и возрастали с каждым днём.
Я часто вспоминаю её здоровущие тёмно-карие глаза, а еще изумительные, изящно сходящиеся на самой переносице брови, которые будто бы непрестанно насыщались чернью и синевой на её неизбежно блекнущем личике. Обычно растерянное и грустное лицо сестры начинало светиться и преображалось от радости, когда мы собирались у её кровати. Возле подушки она хранила гостинцы, чаще всего фрукты, что приносили ей навещавшие нас соседи – тайно от матери Анюта раздавала их нам, когда мы возвращались из школы, а мать очень сердилась и не позволяла нам накидываться на предназначавшиеся сестре угощения.
День ото дня состояние нашей Анюты усугублялось, а потому и забота о ней забирала все больше и больше материнских сил и времени.
С тех пор, как умер отец, мама вообще не покидала пределов нашего дома. Овдовела она очень рано, а по здешним обычаям, особенно для турчанок, что составляли значительную часть нашего окружения, считалось зазорным пользоваться благами личной свободы, а потому такое строгое поведение для многодетной матери воспринималось как норма. Но стоило оказаться Анюте прикованной недугом к кровати, мать пошла даже против собственных правил и принципов…
Если ей вдруг случалось прознать, что кто-то переболел чем-то похожим, она, не задумываясь, устремлялась туда всё разузнать, всё выведать: как же это так получилось, что этот человек сумел вылечиться? Услышит от соседей про старушку, что держит у себя дома целебные травы, – тут же к ней торопится и обязательно купит для Анюты какое-нибудь чудо-зелье. А однажды к нам на село заявился странник: был он чудаковатым на вид, но молва про него ходила, что во многом сведущ и обо всём мнение собственное имел – мать сразу же сорвалась к нему спросить и его совета. У нас ведь в народе как повелось: если ты "грамотный", то точно – целитель, а уж в облике убогого бродяги непременно должен скрываться неведомый миру ангел с необычайными способностями.
Вот и толстый соседский парикмахер завёл привычку навещать нас, не дожидаясь приглашения – он был единственным учёным лекарем на всю округу. На меня же возлагалась повинность: завидя его, бежать в лавку за "обеспечением", коль скоро он даже подойти к больной не решался, не приняв, по крайней мере, две-три стопочки раки.
– Старый я совсем, дорогуша, – обращался он к моей матери, – если не тяпнуть хоть чуток, глаза мои нисколечко не видят.
По правде сказать, недалёк он был от истины: чем больше ему удавалось выпить, тем легче получалось разглядеть самую толстую на нашем дворе куру и, уходя, прихватить её с собой.
И хотя мать перестала пользоваться его врачебными рецептами, она всё ж таки продолжала исправно и безотказно платить ему. Ей крайне не хотелось его расстраивать, а ещё частенько он находил нужные слова утешения: всё, мол, у Анюты благоприятно, недомогание рано или поздно пройдёт, и в его науке уж и нет особой надобности.
Все эти предсказания, к сожалению, не имели ни малейшего отношения к истинному положению вещей. Состояние Анюты мало-помалу осложнялось, пусть и неспешно, но хворь прогрессировала, и этого уже нельзя было не заметить. Из-за неизбежности и безысходности мать сделалась сама не своя.
Всякая болезнь, чтобы считаться ей обычным людским недугом, не должна и не может устоять от местных пусть и незатейливых снадобий и уж на худой конец, если она неизвестна в народе, мирно и в короткий срок приведёт болящего к смерти. А ежели хворь всё лечат и лечат, но она не сдаётся, то называют её сверхъестественной или "потусторонней". Стало быть, девочка как-то невзначай оказалась в дурном месте: могла в ночи долго просидеть у речки, покуда всякая тамошняя нежить совершала свои страшные таинства, а всего вероятнее, что растревожила эту самую нечисть, когда случайно перешагнула через чёрную кошку.
Мою мать можно назвать скорее набожной, чем суеверной, а оттого она решительно отвергла предложенные ей ворожбу и магические обряды, дабы, не дай бог, не согрешить. Да и наш сельский священник поспешил прочесть над Анютой молитвы по изгнанию всякой скверны. Но спустя некоторое время мама всё же сдалась. Болезнь усиливалась, и материнские переживания начисто преодолели её праведную богобоязнь: церковь и колдовство взялись крепко за руки. Рядом с нательным крестиком мама повесила на шею Анюты оберег с загадочной арабской вязью. На помощь святым мощам пришли амулеты и заклятия, а церковные требы сменились заклинаниями знахарок. Всё было тщетно! Самочувствие сестры неуклонно ухудшалось, да и сама мать изменилась до неузнаваемости: иногда казалось, что она напрочь забыла о нашем существовании, о том, что у неё есть ещё и мы. Где и с кем мы проводим время? Кто с нами нянчился, занимался нашим воспитанием – мать даже и слушать ничего не хотела… Одна местная одинокая старушка, что уж много лет кормилась у нас, старалась по мере сил заботиться о нас, насколько ей это позволяли её мафусаиловы годы.
Иногда целыми днями мы не виделись с мамой: то она отправится по чудотворным местам, набрав тесёмок от сестриного платья, чтобы подвязать их узелком у каждой святыни, что есть в округе, в надежде подальше прогнать порчу от болящей; то она ходит по окрестным церквам – поставить по большой восковой свече в честь их престольного праздника. Свечи отливала она собственными руками, с усердием и точно по росту Анюты. Однако все старания были напрасны. Болезнь несчастной нашей сестры оказалась неизлечимой.
Когда все известные средства были исчерпаны и все лекарства испробованы, мама прибегла к самой крайней из мер, что применялись в подобных обстоятельствах.
Взяв в обнимку на руки бледную и истощённую злой болячкой дочку, мать понесла её в церковь. Нам с моим старшим братом было велено следовать за ними, взвалив на себя всевозможные подстилки и матрасы.
Внутри храма на сырых и холодных плитах, прямо перед иконой Богоматери мы бережно уложили самое дорогое, что у нас было, кто уже столько времени стал предметом наших самых сокровенных забот – нашу единственную и горячо любимую сестру!
Все вокруг уж давно нас убеждали, что у сестры в теле что-то потустороннее. Теперь даже у матери не оставалось сомнений, а напоследок и сама Анюта то и дело затевала об этом разговор.
На сорок дней и ночей мы должны были поселиться в церкви, напротив алтаря пред лицом божьей матери, возлагая своё упование на её щедроты и милость, чтобы спастись от дьявольской страсти, что выела себе дупло и подтачивает пагубой нежное древо детской жизни. Сорок дней и ночей – именно столько может продержаться бесовское упрямство в невидимой духовной брани с божественной благодатью, а после всякое зло навсегда отступает посрамленным.
Много рассказывалось и о том, как страждущие испытывали в своём теле мучительные судороги смертельной битвы и даже видели самого вражину, в странном обличии бегущего вон, и особенно когда, возглашая: "со страхом божьим…", священники проходят чрез Святые врата. Счастливы те, у кого ещё сохранялись силы вынести эту страшную схватку: ослабленный физически, редко кто выдерживает величие происходящего в его теле чуда. Однако нет и не бывает в них сожаления, коль скоро, теряя жизнь и плоть, человек обретает нечто более ценное – спасает свою душу…
Предчувствие тяжелейших испытаний повергло нашу мать в ужасную панику, она начала суетиться и не отходила от Анюты с расспросами об её самочувствии. Святость места, вид святых икон, благоухание ладана подействовало поначалу благоприятно на унылое настроение сестры, и с первых же секунд она оживилась и даже принялась шутить с нами.


