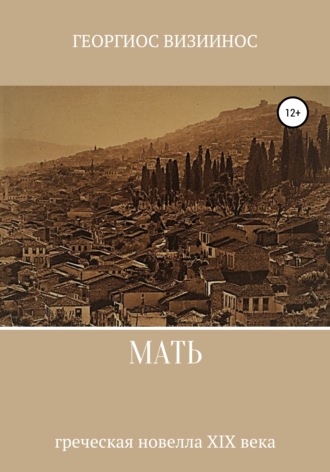
Георгиос Визиинос
Мать
– С кем из братьев тебе хочется сейчас поиграть? – спросила ласково мать, – с Мишуткой или с Георгием?
Анюта как бы в шутку с укоризной посмотрела на мать, словно упрекала за пренебрежение к нам, и ответила ей не по-детски степенно и уверенно:
– Так, значит, я должна выбирать одного из двух?! По отдельности я никого не хочу! Все братья мне нужны рядышком, сколько бы их ни было!
Мать смутилась и замолчала.
А чуть погодя, привела и самого младшего в церковь, но лишь в самый первый день. В тот вечер только меня мама оставила с собой на всю ночь.
До сих пор отчётливо помню свои детские впечатления: тусклый свет иконостасных лампад, едва ли освещающий сами иконы и солею́, ещё больше создавал ощущение тревожного и густого сумрака, который окутывал нас и погружал в кромешную тьму.
Всякий раз, как подёргивались огоньки лампад, мне грезилось, что изображённые на иконах святые в своих широких и длинных одеждах, с нимбами и отрешёнными бледными лицами, с тяжёлыми и пристальными взглядами, оживали вдруг, начинали копошиться, силясь оторваться от доски и спуститься к нам. А когда неистовый ветер рвался сквозь высокие оконные проёмы, яростно дребезжа кусочками стекла, мне казалось, что это усопшие повылазили из окрестных могил, взобрались по стенам и норовят пробраться внутрь. Меня трясло от страха. Неожиданно я увидел, как из темноты сюда тянется мертвец, выставив вперёд к нашему мангалу свои костлявые пальцы.
Но я всеми силами старался и виду не показать, чтоб не выдать своего беспокойства. Я очень любил сестру и предпочел бы всё перетерпеть, дабы остаться возле них с матерью. К тому же я знал, что мама, не задумываясь, отправила бы меня домой, догадайся она о моих страхах.
В следующую ночь я тоже держался как мог, сопротивляясь ужасам вокруг со всей стойкостью и ответственностью за возложенные на меня обязанности.
В церкви я присматривал за огнём, приносил воду, подметал по будням, а по праздникам или в Воскресение на утрене подводил сестру под Евангелие, когда оно читалось священником перед открытыми Царскими вратами. На литургии расстилал покрывальце, куда сестра ложилась ниц, чтобы со Святыми дарами могли пройти прямо над нею. На о́тпусте я относил подушку прямо к дьяконским дверям, чтобы Анюта могла встать там на коленки и принять на себя епитрахиль с поручами от разоблачающегося священника и дождаться благословения проскомидийным копием и молитвой: "Распе́ншуся Ти Христе́, поги́бе мучи́тельство, и попра́на бысть сила вра́жия», которая произносилась тихо, почти шёпотом.
За мной неотступно своими медленными и неуверенными шажками, сопровождаемая сочувствующими взглядами, следовала моя бедная сестра – бледная и грустная, и это побуждало прихожан ещё усерднее молиться о её выздоровлении, которого мы всё никак не могли дождаться.
Напротив, сырость, холод, непривычная обстановка, и, конечно же, жуткие, пугающие ночи вскоре оказали пагубное воздействие на её слабый организм, и её состояние серьезно ухудшилось, внушая самые тяжелые предчувствия. Мать это понимала и теперь вообще стала демонстрировать полное безразличие ко всему, что не имело отношения к дочери. Даже думать, разговаривать не хотела, если это не было связано с Анютой или со святыми, которым она впредь самозабвенно молилась.
Как-то я оказался возле неё и оставался незамеченным в ту минуту, когда она на коленях молилась перед иконой Спасителя:
– Возьми что хочешь, но не забирай у меня дочку. Вижу, что к тому всё идёт! Вспомнилось тебе о моём грехе и уж готов отнять ребенка… наказать меня?! Спасибо тебе, Господи!
На какое-то мгновение мать умолкла, и средь глухой тишины ощущался каждый её вздох и всхлип, и я, казалось, мог различить как каплют на пол её тяжелые слезы. И ещё через секунду, преодолевая гортанный спазм, она добавила:
– Двоих детей принесла сюда к твоим ногам… оставь мне девочку!
От услышанного ледяная жуть оцепенением сковала мои нервы и отозвалась гулом в ушах. Я уже ничего не понимал. В какой-то момент мать, охваченная агонией, распласталась на сыром мраморном полу, я же вместо того, чтобы поспешить к ней на помощь, бросился из церкви в слезах и вне себя от горя: рыдание и крик разрывали мое горло, будто уже сама Смерть в зловещем ожидании невидимо склонилась надо мною. Зубы стучали мелкой дрожью, а я все бежал и бежал, боясь преследования и задыхаясь от усталости. Неожиданно я оказался очень далеко от церкви, только тогда я остановился и позволил себе оглянуться. Позади никого не было. Я рухнул в траву.
Потихоньку я пришел в себя и начал размышлять о случившемся. Мою память будоражили воспоминания о ласке, нежности и любви, что я питал к матери. Я попытался вспомнить, может, был виноват перед ней в чём-то или какой несправедливостью расстроил её, но ничего не приходило на ум. Наоборот, с того самого дня как родилась сестра, я не только не получал родительского внимания, о котором горячо и отчаянно мечтал, но всё больше и больше оказывался незамеченным. Вспомнилось ещё, что и отец имел привычку называть меня "бедолагой". От гложущей меня досады я снова заплакал: "Мама не любит меня! Я не нужен ей! Никогда не пойду в церковь!" Поднявшись, я, полный обиды и разочарования, поплёлся обратно в посёлок.
Вместе с сестрой на руках мама почти сразу отправилась на мои поиски. Получилось так, что испуганный моим истошным криком священник, войдя в храм, осмотрел больную и посоветовал матери незамедлительно возвращаться домой.
– Господь великодушен, дочь моя, – обратился он к матери, – милосердие его повсюду. Если суждено ребёнку поправиться, то это и под домашним кровом всегда произойдёт.
Мать, к сожалению, вынуждена была его послушаться! А были ж то самые расхожие, самые заурядные отговорки, которыми по обычаю священники выпроваживали умирающих, чтобы, не дай-то бог, не кончился кто в церкви и не осквернил святого места.
Когда я вновь увидел маму, она показалась мне как никогда потерянной и печальной. Со мною же обращалась с особенной чуткостью и вниманием. Она взяла меня к себе на руки, ласково обняла и целовала много и нежно: казалось, что очень старалась загладить вину.
В тот день не мог я ни есть, ни спать. Всю ночь я пролежал в кровати с закрытыми глазами, но слух мой напряженно отслеживал каждый шорох, каждое мамино движение, а она, как и прежде, не сомкнув глаз, просидела у изголовья больной сестры.
Это было около полуночи, когда мне показалось, что мама начала готовиться ко сну, стелить постель, ходить из комнаты в комнату, но вскоре всё опять успокоилось и до меня донеслось её приглушенное скорбное причитание. Я узнал этот мотив – это был поминальный плач по отцу: ещё давно, до болезни Анюты, мать не раз пела его, но после стольких лет я услышал его впервые. Этот напев сразу же после кончины отца придумал по её просьбе один нищий цыган – чёрный как смоль оборвыш известный в нашей округе за свои таланты сочинять и импровизировать. Мне кажется, что я до сих пор могу живо представить себе его грязные и засаленные волоса, маленькие пытливые глазки и торчащую из рубашки волосатую грудь.
Обычно он сидел у входной двери нашего дома, заваленный медной утварью, что удалось насобирать по соседям для чистки, и, склонив голову набок, вырисовывал голосом мелодию, подбирая на ходу подходящие по смыслу слова, временами подыгрывая себе на изрядно потёртой и плаксивой трёхструнной лире. Перед ним подолгу в слезах стояла мать, посадив маленькую Анюту на руки, и внимательно слушала. Я же крепко держался за полы её длинного платья, прячась своим личиком в крупных складках: сколь мелодичны и приятны уху были чарующие мотивы, столь же страшен и отвратителен казался вид этого дикого песняра.
Как только после нескольких попыток у матери получилось исполнить наизусть это горькое упражнение, она вытащила из отворота платка десять серебряных курушей и подала бродяге – денег тогда у нас было достаточно. После собрала ему отдельно хлеба, вина и всяческой еды, что была по случаю на нашем столе. Пока тот ел, мать у себя в комнате повторяла по строкам всё целиком, дабы не упустить ни слова. Было видно, что ей понравилось сочинение, потому как, прощаясь, она подарила ему двое выходных шаровар, что сохранились от отца.
– Да упокоится душа его с миром, дочка, – обрадовался бродяга и, обвесившись медной посудой, вышел за ворота.
Эту самую поминальную молитву и пела в ту ночь моя мама, а я, затаив дыхание, вслушивался в тоскливые звуки, и невольные слезы стекали по щекам на подушку, но я не решался даже пошевелиться. Вскоре по всему дому разнёсся аромат ладана.
– Ах! – осенила меня жуткая догадка, – наша Анюта умерла!
Тотчас я вскочил с кровати и кинулся в комнату, где обнаружил престранную картину: рядом с сестрой, которая была жива, но по обыкновению тяжело дышала, на самой её кровати была разложена мужская одежда в том порядке, как она обычно носится. Справа стояла скамья, покрытая чёрной тканью, а на ней большая пиала воды и две зажжённые лампадки. Мать, стоя на коленях, окаживала разложенные вещи и читала молитвы над водою. Кажется, я побледнел со страху от увиденного, потому что мать тут же бросилась меня успокаивать:
– Не бойся, сынок, – произнесла она возбуждённо шёпотом, – это одёжка твоего отца. Давай с тобой вместе попросим его прийти и исцелить нашу Анюту.
Я опустился на колени подле неё:
– Сделай так, чтобы выздоровела Анюта! Забери лучше меня! – сквозь слёзы, разрыдавшись, принялся молиться я, поглядывая с укором на мать и показывая ей всем своим видом, что мне известно, как она заклинала о моей смерти вместо сестриной. Разве мог я тогда, глупый, осознать, что тем самым доводил её до крайней степени отчаяния! Надеюсь, что она смогла меня за это простить. Был я ещё очень мал, чтобы понимать, каких мук натерпелось её сердце.


