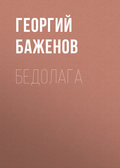Георгий Баженов
Хвала любви (сборник)
Бог ты мой, к такой ли старости готовила себя Ольга Петровна?
К такой ли судьбе предназначала своего единственного сына, когда столько лет берегла и лелеяла его?
О том ли мечтала в жизни?
Все пошло прахом…
И тем не менее, видя, как мучается Гурий, даже вот сейчас, в этот его приезд, Ольга Петровна, давно изболевшись сердцем, продолжала переживать за сына так, будто он оставался прежним, маленьким и беззащитным мальчиком. Обе его семьи, жены, дети, обязательства перед ними ничего для нее не значили, кроме одного: они терзали ее мальчика, и это было для нее главное знание и мучение. Вот почему однажды она сказала сыну (впрочем, она пыталась сказать это не раз, да сын не слушал ее):
– Гуринька, маленький, может, тебе плюнуть на все и остаться жить с твоей мамочкой?
Гурий побледнел как полотно и долго смотрел на мать пристальным горячечным взглядом: может, она просто сумасшедшая? невменяемая? не от мира сего? Если нет, откуда тогда такая юродивость в словах? такая кротость взгляда? такая невинность в улыбке? И из губ его вырвалось жестокое, страшное, убийственное восклицание:
– О Господи!!! – после чего он с немыслимой силой хлопнул дверью и выбежал вон из дома.
Опять он бродил по лесу, метался, как загнанный зверь, на этот раз без альбома и карандашей, к черту все! Душа его изнывала от чувства полного бессилия и проигрыша в жизни; казалось бы, он ни в чем не виноват перед жизнью, во всяком случае, изначально не виноват, и все же судьба его катится вперед так (а может, не вперед она катится, а в пропасть?), что повсюду, как вехи, остаются события, главный смысл которых: виноват в этом! виноват в том! виноват в пятом! виноват в десятом! Везде и всюду и во всем – виноват, виноват. Разве можно жить спокойно и размеренно, работать полноценно и нравственно при этом постоянном, изнуряющем чувстве вины?
Да и вины в чем?! перед кем?! за что?!
Непонятно, непонятно…
А от этой непонятности жить на свете еще трудней, еще невыносимей…
И вдруг он слышит: голоса в лесу; стук топора; вжиканье пилы. Выходит на пригорок – и что же видит? Вон, совсем недалеко, на крохотной делянке, взявшись за ручки пилы, разделывают кряжистую сосну Иван Фомич с Верой; видит даже капельки пота на взопревшем лбу Веры. Раскрасневшаяся, в легком цветастом сарафане, Вера работает весело, азартно, с упоением, а Иван Фомич, спокойный, уверенный, иногда поправляет дочь: «Не дергай, не дергай, плавней держи…» Неподалеку от них тюкают двумя топорами Ванюшка с Валентином; один стоит на одном конце сваленной наземь сосны, другой – на втором. Стоят на ногах крепко, уверенно (видать, обучил этому дед, не иначе), а крепость и уверенность нужна тут потому, что рубят они сучки очень острыми, надежными в деле топорами (сам Гурий, конечно, ни за что не доверил бы топоры сыновьям). Каждый из пацанов, широко расставив ноги, стоит над сосной так, чтобы ствол был между ступнями; шаг за шагом, метр за метром продвигаются они вдоль лежащей на земле сосны и отрубают сучки верными расчетливыми движениями; причем рубят правильно, от комля – к вершине. Важен тоже рядом вертится, но дед следит за ним, иногда покрикивает:
– Эй, пострел, а ну-ка топай к нам, не лезь к братцам под топор!
И как ни хочется Бажену быть рядом с Ванюшкой и Валентином, деда он слушается, да к тому же и в самом деле боится топора. Впрочем, он не в обиде на деда, потому что тот разрешает ему ставить клеймо на полутора-двухметровых бревнах. Разделают сосну Иван Фомич с Верой, сложат бревна в небольшую кучку, а Важен ходит с головешкой от костра и ставит на торцах клеймо. Клеймо такое: с одной стороны – крестик, с другой – галочка. И крестик, и галочка Бажену даются легко, а чтоб еще лучше получалось, он высовывает изо рта язык.
– Эй, парень, язык не проглоти! – кричит ему иной раз дед.
– Не, не проглочу. Вот он! – И Важен, весь чумазый, перепачканный в саже, показывает им длинный розовый язык. Вера, любуясь сыном, ласково улыбается ему, а ребята, оторвавшись от работы, вытирая со лба пот, смеются над ним:
– Эх ты, клоп, посмотри на себя, на чертика похож!
– Сами вы шертики, – пыхтит Важен, продолжая сосредоточенно и серьезно ставить на свежих торцах угольные кресты и галочки.
Ах, как болит в эти минуты душа у Гурия; даже не душа, а именно сердце, так и покалывает, покалывает его мелкими иголками. Почему бы это? Сам не знает. Ощущение такое, что вот она, жизнь, рядом, совсем рядом, идет своим чередом, а ему, Гурию, как бы и нет в этой череде места.
Но почему же нет?
Гурий выходит из своего укрытия (но разве он прятался? нет! просто они, занятые каждый своим делом, долго не замечали его) и, петляя между соснами и березами, вдруг появляется на делянке, как по волшебству. Первым его замечает Важен и со всех ног бросается отцу навстречу; Гурий подхватывает его на руки, Важен жмется к отцу, обнимает его крепко-крепко обеими ручонками и перемазывает ему щеки и нос, и Вера, завидев их обоих, таких чумазых и смешных, начинает весело хохотать:
– Господи Боже мой, истинные чертенята! Посмотрите на них!
Смеются над ними и Ванюшка с Валентином, один только Иван Фомич смотрит на Гурия настороженно-недоверчивым взглядом: этот, мол, откуда еще взялся здесь?!
– Папа, – подходит к нему Валентин, – ты сучки умеешь рубить?
– Ага, умеешь? – спрашивает и Ванюшка.
И спрашивают горделиво: мол, мы вот умеем, а ты?
– Да вроде рубил в детстве, – отвечает Гурий.
Опустив на землю Баженчика, Гурий подходит к густоветвистой сосне, берется за вострый топорик и, широко расставив ноги меж кряжистым стволом, начинает рубить толстый сук. С непривычки ничего не получается: тюк да тюк, а тонко-золотистая кора скользит под лезвием топора, никак не дается сучок.
– Да ты не так, – говорит Ванюшка. – Угол держи наклонный. Вот так! – И он показывает другим топором, как именно надо делать.
– Ага, понял, – с азартом подхватывает его слова Гурий и начинает рубить несколько иначе; и теперь, кажется, получается: сук отваливается на землю, а по вискам Гурия текут обильные дорожки пота.
– Ладно, чего встала? – неожиданно резко говорит Иван Фомич Вере. – Держись за пилу, поехали!
– Может, мне с вами попробовать? – вдруг предлагает Гурий Ивану Фомичу, оторвавшись от топора. – Все же силешки побольше будет?
– Силешки-то? – прищуривается насмешливо Иван Фомич. – Может, и побольше. Да с Верой оно сподручней… – Нет, никак не хочет Иван Фомич идти навстречу «зятю».
– Ну и ладно, – соглашается Гурий. Странное дело: на душе у него становится легко, даже весело, хотя он чувствует настороженность и недоверчивость Ивана Фомича. Да привыкать, что ли? А вот кровь от работы действительно разогрелась, разыгралась у Гурия, и он, вновь взявшись за топор, лихо и молодецки рубанул по толстому сучку. Эх, да как неудачно!.. Топор скользнул по шелушащейся коре и сыграл по ноге Гурия. Кровь так и брызнула из раны! Гурий удивленно смотрит на ногу, Ванюшка с Валентином от неожиданности побледнели, Важен расплакался – видать, от страха, завидев кровь, а Гурий стоит, кривя губы то ли от боли, то ли от растерянности.
Первой, кажется, пришла в себя Вера, бросилась к Гурию:
– Быстро, быстро, скидывай брюки!
Гурий непослушными руками с трудом снял с себя брюки; враз набухшие от крови, они цепко прилипали к телу. Вера посмотрела сюда, посмотрела туда, крикнула:
– Ванюшка, снимай рубаху! Ну, живо!
Тот сразу все понял, скинул с себя рубашку; Вера распластала ее на узкие полоски – в виде бинта – и начала быстро заматывать Гурию рану. Но кровь шла густо, просачиваясь через тонкую материю.
– Валек! Давай еще твою! – приказала Вера.
И снова распластала рубаху на лоскуты – теперь уже Валентинову, а когда стала бинтовать ногу, почувствовала: кто-то толкает ее в бок.
– Ну, чего? Чего? – раздраженно обернулась Вера. Господи, а это Важен стоит рядом, тоже скинул с себя рубаху и сует матери.
– Ах ты, глупышок! – говорит она. – Спасибо, спасибо, сынок, уже не надо… – и даже времени нет в этот момент улыбнуться, усмехнуться: рубаха у Бажена, как и сам он, напрочь перепачкана в саже и вряд ли может пригодиться.
Когда кровь перестала сочиться, все, конечно, облегченно вздохнули. Вера сидела рядом с Гурием, отходила от нервного напряжения. Подошел Иван Фомич, посмотрел с презрением на Гурия, сплюнул в сторону:
– Р-работничек, язви его!
– Не надо, папа, – попробовала защитить Гурия Вера.
– А, да идите вы! – махнул рукой Иван Фомич и, подхватив пилу, зашагал домой.
Артельная, такая слаженная и веселая, работа была на корню загублена.
Через неделю Гурий уезжал в Москву.
Он уезжал, а семья его оставалась здесь, в Северном. И Ванюшка с Валентином оставались, и Важен, и Вера. Всех вместе Вера привезет в Москву осенью, к началу школьных занятий.
Конечно, у Гурия была формальная причина ехать: он должен был, как всякий преподаватель, явиться в школу заранее, подготовиться вместе с другими педагогами к новому учебному году. Но в том-то и дело, что уезжал он совсем не поэтому. Не мог он больше жить в Северном, где всем было хорошо – и сыновьям, и Вере, – только ему одному жить здесь представлялось невмоготу. Нет, он тоже любил свой родной поселок, вырос в нем, но продолжать жить в подобной сумятице семейных отношений просто-напросто был не в силах.
Не в силах был жить рядом с матерью. Это просто непереносимо.
Не в силах жить и рядом с Иваном Фомичем Салтыковым, который открыто презирал Гурия. Несмотря на то, что Вера родила от Гурия сына и жила с Баженом в доме отца, Иван Фомич не хотел признавать за Гурием никаких прав на свою дочь и на своего внука. Мало ли кто от кого родит, мало ли по каким неведомым тайнам зарождается жизнь, – все это не имеет никакого отношения ко всяким проходимцам и прохвостам, вроде Гурия Божидарова.
Не в силах был Гурий жить и рядом с другими соседями, Натальей и Емельяном Варнаковыми, в доме которых каждое лето, как пчелы в родном улье, поселялись – и поселялись на законном основании – его сыновья Ванюшка и Валентин. И здесь были совсем другие причины, почему он не мог жить рядом с Варнаковыми, прямо противоположные тем, из-за которых он не мог жить рядом с Салтыковыми. Если Иван Фомич знать не знал Гурия и не хотел признавать его за «зятя», то Варнаковы, наоборот, только и мечтали о том, чтобы у Гурия с Ульяной все наладилось, они не питали никакого зла к Гурию, больше того – любили, уважали и боготворили его: уже за одно то уважали и превозносили, что он был далеко не чета поселковым жителям, он был выше, образованней, умней их – рисовал картины, был художником.
Как мог продолжать Гурий безмятежно жить в поселке в такой семейной неразберихе и сумятице?
К тому же он ощущал себя не только семейным банкротом; может быть, в семейных своих делах он в конце концов как-то разберется (и он верил иногда твердо: должен разобраться и разберется обязательно, иначе как жить дальше?), а вот как быть с более сложной и трудной проблемой – его творчеством? Кто он, Гурий Божидаров, художник ли он? Сможет ли в конечном итоге реализовать себя, выразить через художество свою суть, сердце свое и душу? Дано ли ему от Бога?
Вот почему уезжал Гурий Божидаров в Москву; вот отчего бежал и вот к чему стремился.
Вера восприняла его отъезд спокойно; она была молода, хороша собой, смешлива, весела, энергична… она верила в себя, в свою звезду. К тому же она, как никто другой, наверное, понимала и чувствовала Гурия, хотя сам он вряд ли догадывался о полноте и глубине ее чувства к нему, понимания его души. По его представлениям, она была все-таки недалекой женщиной. И по представлениям многих других людей – тоже. Но она любила его, а если любишь – понимаешь и принимаешь в душе любимого все. Все!
Вот она и осталась в Северном, с тремя ребятишками: один свой, Важен, а двое Ульяниных – Ванюшка и Валентин. И ничего – весела была, радостна, кипела энергией. Надо же, счастливая женщина!

Семья Баженовых: отец Виктор Авдеевич, мама Татьяна Андреевна, сестра Элеонора, старший брат Юрий и Георгий – 4 года. 1950 г.

Прощание с детским садом. Гера Баженов – крайний справа. Поселок Северский, Урал, 1953 г.

1-й класс. Баженов – крайний слева во втором ряду. Урал, 1953/54 г.

Старший брат Юрий, сестра Элеонора, Георгий – воспитанник Свердловского суворовского военного училища, 1959 г.

Друзья детства: Виктор Конюхов, Владимир Тельминов, Володя Федюнин

16 лет

Институт иностранных языков, переводческий факультет, группа № 105 (Баженов – крайний слева во втором ряду), г. Горький, 1965 г.

У общежития института. Крайний справа – Баженов. 1965 г.

Первая жена – Любовь Федоровна Баженова (Абрамова). Безвременно ушла из жизни в возрасте 25 лет

Любовь и Георгий Баженовы с дочерью Майей. Урал, 1969 г.

Бабушка и внучка. Майя с бабушкой Верой Михайловной Абрамовой. 1970 г.

Лучшая подруга жены Любы – Татьяна Заболоцкая. Поныне верный друг семьи Баженовых

Индия. Бомбей 1967 г.

Семья друга-переводчика Эдуарда Чехалова: жена Ирина, дочери Тома и Саша

Индия. Баженов – переводчик английского языка

С другом инженером-переводчиком Гари Осокиным и его женой Дитой. Индия, 1967 г.

Индия. В пещерах Эллоры (Баженов – в центре), 1968 г.

Прощание с индийской красавицей Султаной. Штат Махараштра. Индия, 1968 г.

Индия. Пещеры Аджанты и Эллоры. Группа переводчиков. Баженов – второй слева. 1968 г.

Литературный институт. Диплом вручает Владимир Лидин. 1973 г.

Египет. Пирамида Джосера. Баженов – переводчик английского языка. 1974 г.

Африка, Египет. Ливийская пустыня. Май 1974 г.

Жена переводчика Леонида Горбика – Алла, директор фирмы «Агат-МедФарм». Неустанная хранительница очага – братства выпускников Горьковского института иностранных языков

С осетинским писателем Гастаном Агнаевым

Киев. С писателем Иваном Евсеенко

Группа писателей на Севере во главе с Сергеем Залыгиным. Сентябрь 1981 г.

С женой Людмилой в гостях у писателя Николы Радева и его жены Райны. Никола Радев – в центре. Болгария, 1981 г.

С поэтом Виктором Макукиным, его женой Тамарой и их друзьями. Брянщина, июнь 1980 г.

В редакции местной газеты «Северский рабочий». Редактор Сомов В. А. и корреспонденты Евгений и Алексей Кожевниковы. Урал, 1985 г.

С художником Владимиром Смуруженковым и сыном Ваней. 1986 г.

В гостях на Брянщине болгарская писательница и переводчик Венета Георгиева

Дочь Майя, сыновья Валентин, Иван и внук Андрей. Москва. Парк Лианозово. Рядом – Музей художника Константина Васильева.

Жена Людмила Ивановна Баженова (Аникеева), дочь Майя, сыновья Иван и Валентин. Новороссийск, июль 1982 г.

Брянщина. Деревня Подгородняя Слобода.

Сыновья Валентин и Иван. 1985 г.

Валентин с бабушкой Валентиной Ивановной Аникеевой, 1976 г.

Деревня Подгородняя Слобода
Август, 1987 г.

Брянщина. Река Сев. Сын Иван с Евгением Чичериным

Семья жены Татьяны. Киргизия, 1990 г.

Тётя жены Татьяны – Наталья Федоровна Михайлова

Зять Эдуард Моргун с сыном Михаилом. 1984 г.

Сестра Элеонора со своим мужем Эдуардом Моргуном. Сибирь, Тюмень

Тётя жены Татьяны – Наталья Федоровна Михайлова

С женой Татьяной и сыном Баженом. Киргизия, Фрунзе. 1990 г.

Сын Бажен на рыбалке. Река Сев. Лето 1990 г.

С Дочерью Майей и внуками Андреем и Любой


Деревня Гидеево на Владимирщине. С сыном Баженом и зятем Николаем Романовым

Сын Бажен с бабушкой Евдокией Григорьевной Лёвиной

С сыновьями Валентином и Иваном

Центральный дом литераторов.
С женой Татьяной и поэтом Тимуром Зульфикаровым

Переделкино.
С писателем Борисом Екимовым

Подруга Жены Ольга Герасёва

Подруга жены Ольга Залипаева

Подруга жены Нина Тремасова

Аня в гостях у художника

С Надеждой… 1992 г.

Музы художника

Музы художника


Жена Татьяна

Муза художника
Глава V
В Москве Гурий первым делом приехал к Ульяне.
– О, какие гости! – воскликнула та: то ли насмешливо воскликнула, то ли растерянно – Гурий не понял. В махровом застиранном халате, с неприбранными волосами, с желто-припухшими подглазьями и приметными морщинами по уголкам губ, Ульяна выглядела уставшей и постаревшей. Обкатали Сивку крутые горки.
– Ну, что смотришь? Не нравлюсь? – усмехнулась Ульяна. – Проходи, гостем будешь. Давненько муженька не видала…
Гурий не торопясь разделся, прошел на кухню.
– Чай будешь? – спросила Ульяна и, потуже запахнув халат, уселась напротив Гурия, по вечной женской привычке подперев лицо ладонями.
Гурий промолчал.
– А может, водочки? – усмехнулась Ульяна. Вот теперь усмехнулась откровенно, можно было не сомневаться.
– Не для этого пришел, – обронил Гурий. Хотя, положа руку на сердце, выпить он был не прочь.
– Неужто пить бросил, муженек? Надо же, обрадовал наконец женушку.
– Хватит паясничать! – оборвал Гурий. – Лучше бы спросила: как там дети твои, в Северном?
– А что дети? – Ульяна поднялась с табуретки, поставила на плиту чайник. – Знаю, что все с ними нормально. По-другому и быть не может.
– Откуда ты это знаешь? Ни одного письма сыновьям не написала.
– А оттуда и знаю, муженек, что вы с Веркой в лепешку разбиваетесь, чтоб угодить им. Чует кошка, чье мясо съела.
– Ловко устроилась. Значит, мы еще и виноваты перед тобой? Вера виновата?
– А кто же еще? Отбила мужика у бабы, теперь в святые записалась? Ах-ах-ах!
– Да никого она у тебя не отбивала. Сама мужика выгнала.
– Выгнала. Правильно. Не нужен мне алкоголик и бездельник. Но я выгнала, чтоб муженек исправился. О детях подумал. А не для того, чтобы некоторые расторопные умыкнули отца от сыновей.
– Да если б ты знала, сколько раз Вера заставляла меня вернуться к тебе!
– Неужто? Что-то я не замечала такого…
– Потому что я сам, сам не хотел возвращаться!
– Еще бы. Легко ли от молодой аппетитной бабенки оторваться?
– Да не было у нас тогда ничего, не было!
– Ну да, пацан у Верки от беспорочного зачатия родился, – усмехнулась Вера; в это время закипела на плите вода, Ульяна быстро ошпарила фарфоровый чайник, сыпанула побольше индийского чая, добавила в него багульника и залила кипятком: по кухне поплыл душистый аромат…
Ульяна поставила на стол чашки, блюдца, конфеты в изящной хрустальной вазочке; нарезала белый хлеб тонкими ломтиками, достала из холодильника сливочное масло и пошехонский сыр:
– Угощайся, муженек!
– Спасибо, не откажусь. – Гурий, честно сказать, проголодался и был не против съесть пару-другую бутербродов и попить домашнего чайку с вкусной шоколадной конфетой.
Какое-то время сидели молча, пили чай; в кухонное окно, как прежде, как много лет назад, заглядывала густо-зеленая ветка акации с желтыми цветочками; иногда от ветра она тихонько стучалась в стекло, будто просила пустить ее в гости. Странно: в природе словно ничего не изменилось, а как много случилось перемен в человеческой жизни, в их жизни… И в то же время вот сидишь так, пьешь чай, в окно ветка акации заглядывает, напротив Ульяна устроилась, и вдруг покажется, померещится, будто и не было никакого недавнего прошлого, ничего не было, это только приснилось или привиделось; странно, очень странно…
– Знаешь, Ульяна, – сказал он неожиданно проникновенно, с чувством, – давай сделаем все по-хорошему, а?
– Что именно-то? – Ульяна, надо сказать, ни в какое размягченное состояние не впала и говорила по-прежнему то ли с насмешкой, то ли с недоверием, не разберешь.
– Давай разойдемся по-мирному – и все!
– Я с тобой и так всегда по-мирному.
– Почему тогда не даешь развода?
– А почему я должна давать его?
– Но ведь я все равно не живу с тобой. Сколько уже лет…
– Ничего, вернешься, как миленький. Никуда не денешься.
– Да зачем я тебе? У меня давно другая семья…
– Мне-то ты не нужен. Правильно. Плевать я на тебя хотела. А вот детям ты нужен. Сыновьям.
– Я и так у них есть. Куда я от них денусь?!
– Э, нет, дорогой. Им отец настоящий нужен. Не приходящий, не на стороне. А рядом. Всегда рядом. Ты что, не понимаешь: это не девчонки, это пацаны, за ними мужской присмотр нужен, глаз да глаз, понятно? Если, конечно, не хочешь, чтоб из них хулиганы или бездельники выросли.
– Не вырастут, не беспокойся.
– Может, и не вырастут, если будешь рядом с ними. Ты оглянись вокруг-то? Что делается кругом? Видишь?
– А что? – не понял Гурий.
– Э-э…эх! – сокрушенно покачала головой Ульяна. – Совсем ничего не видишь, художник?
– Да ты конкретно говори, без этих своих! – повысил голос Гурий.
– Куда уж конкретней. Жизнь разваливается повсюду, а он, как глухарь, все токует: что да что? где да где? как да как?
– Сто лет уже твердят: жизнь разваливается. А она ничего, держится пока…
– То-то такие, как ты, сыновей бросают, в пьянство ударяются, шашни на стороне заводят, детей незаконнорожденных плодят. И все ничего не происходит?!
– Ты Бажена не трогай. Куда там – незаконнорожденный… Да он был бы сто раз по закону рожден, если б ты мне развод дала.
– Не дам, не надейся!
– Ну, и чего ты этим добиваешься?
– А ничего. Сказала тебе: у моих сыновей должен быть отец. И он будет у них.
– Раньше надо было думать об этом.
– Раньше?! – неожиданно взвилась Ульяна. – Да когда раньше? Когда ты пил, бездельничал, нюни распускал?! Ты зачем меня в Москву привез? Зачем женился? Зачем детей заводил? Чтобы гроша ломаного за душой не иметь и мазюкать свои гнусные картины? Кому они нужны? Да и вообще, кого ты строишь из себя? Скажите на милость: не понимают его! А что ты умеешь делать, кроме как корчить из себя художника? Ты мужиком, мужиком должен быть прежде всего, хозяином, отцом, а ты превратился в дешевого забулдыгу и слюнтяя! И мне нужно было терпеть это?! За что, за какие грехи? Да мне плевать на тебя на такого! Не то что спать, стоять с тобой рядом противно было. Вот и вылетел из моего дома, как пробка…
– «Из моего…» – усмехнулся Гурий. – Дом-то общий, на всех получали…
– Может, ты еще и жилплощадь у сыновей отобрать хочешь?
– Да не нужна мне ваша жилплощадь. Ничего не нужно. Мне развод нужен, больше ничего.
– Развод не получишь. Накось выкуси! – И Ульяна показала мужу грубый кукиш. – Я тебя выгнала, чтоб человеком сделался. Чтоб одумался. Осознал. Сыновей вспомнил. И теперь, когда ты стал нормальный мужик, деньги стал хорошие зарабатывать – я по алиментам вижу! – теперь, значит, отказаться от тебя? Ну нет, шалишь!
– Да не ты ведь меня таким сделала. А Вера…
– Верка?! – нервно рассмеялась Ульяна. – Нет, хрена! Верка только подобрала тебя, а человеком сделала тебя я! Если б я тебя не выгнала, не встряхнула мозги хорошенько, не сделала бы тебя бездомным, никакая Верка тебя не изменила бы. Она только подобрала, где плохо лежало, а человеком ты стал благодаря мне. Мне!
– Надо же, как я стал котироваться в женском стане, – произнес насмешливо Гурий. – И чего вы за меня ухватились, не пойму?
– Не знаю, чего Верка ухватилась, хотя нет, знаю: чужое-то, оно всегда слаще, к тому же на готовеньком всякий норовит проехаться, задарма-то, а про себя повторю: сыновьям отец нужен, и я не позволю, чтобы они были сиротами при живом папаше!
– Да как я к тебе вернусь-то, дура?! – закричал Гурий. – Ты подумай-ка! Как буду жить с тобой после всего случившегося?
– А со мной не надо жить. Не заставляю. Я и без тебя перебьюсь. Мужицкого вашего поганого добра повсюду навалом, не беспокойся. Не со мной – с детьми будешь жить, понял?
– Что я тебе, бестелесный, без сердца, без души, без желаний, робот, что ли? Да я видеть тебя не могу.
– Чего тогда пришел?! – в бешенстве закричала она.
Долго он не отвечал, пристально смотрел на Ульяну: надо же, думал он, когда-то я обнимал эту женщину, любил, целовал, детей от нее завел, а теперь даже пред ставить себе не могу, как это все было… Как будто в другой жизни, на другой планете, в другом времени и пространстве… Как же так?!
– За разводом пришел, – наконец повторил Гурий в который уже раз.
– Развода не получишь!
– Не получу?
– Не получишь!
– Ну и ладно.
На этом их чаепитие закончилось, и Гурий, не солоно хлебавши, направился к выходу.
– Когда ждать-то? – вслед ему насмешливо бросила Ульяна.
Он обернулся к ней, покачал укоризненно головой, но, так ничего и не ответив, молча вышел из квартиры.
С того дня, как Гурий впервые переночевал в общежитии, с ним стало происходить что-то странное. Не то что бы повлияли на него разговоры с молодыми ребятами и девчонками или, скажем, имел значение сам пьяный загул, нет, не в этом дело; просто в душе Гурия как будто что-то стронулось, сдвинулось с места. То он жил в своем мире, собственными заботами и проблемами, только и думал, как сделать, чтобы ничто внешнее – семья, школа, просто окружающая жизнь – не отвлекало его от творчества, жить и писать – и больше ничего, – вот что главное. И вдруг среди этих ребят в общежитии, а еще верней – утром, после пьянки, Гурий и почувствовал, что никому не интересно и не нужно то, чем он живет. То есть не в том дело, что они, ребята, тупы или бездарны и не могут понять его творческих исканий, его души, а в том, что они не испытывали потребности в понимании или познании того, чем он, Гурий, занимался всю свою жизнь.
А ведь Гурий, как тысячи художников, всегда тешил себя мыслью: он нужен народу, рано или поздно, но будет нужен, люди нуждаются в творцах, в выразителях народной идеи, народной стихии, иначе как тогда и зачем жить на свете? И вот почудилось ему здесь, в общежитии, что люди как раз очень просто могут обходиться без всего этого, потому что само искусство потеряло то значение, которое должно иметь в жизни. Искусство живет как бы по своим законам, очень внутренним, очень эгоистичным (вот хоть работы Гурия взять, как представителя такого искусства), а люди живут совсем по другим законам. Ибо современное искусство никак не выражает и не отражает нынешней жизни, а нынешняя жизнь никак не питает и не вдохновляет современное искусство. Так или не так?!
Нет, не получалось все-таки у Гурия выразить в словах свое ощущение. Как-то примитивно, топорно выходило.
А истина-то проще: не нужен Гурий никому – ни со своим художеством, ни со своей душой. Не интересен. Безразличен. Как будто тень среди людей. Среди людей, у которых реальные заботы. Реальная жизнь.
Или вот еще как почувствовал Гурий: они, те простые парни и девчонки, чем-то неизмеримо выше его. Естественней. Проще. Жизненней. Правдивей. А он, Гурий, как ни странно и ни стыдно это понимать, значительно ниже их. В его усложненности нет истины. А есть одна только видимость. Обман. Фикция. Иллюзия.
Они – правда.
А он – ложь.
Вот что он почувствовал тогда, если говорить совсем прямо.
Они – правда. Хотя они и проще, и примитивней его.
А он – ложь. Хотя он и сложней, и образованней их.
Разве не измучает такое открытие? Разве останешься спокойным, когда поймешь подобное о себе?
Вот и стронулось что-то в душе Гурия, сорвалось, сдвинулось с места. Вдруг ни с того ни с сего, с точки зрения Ульяны, забросил он всякое рисование, стал пропускать занятия в школе, начались стычки с начальством, все чаще исчезал он из дома, бывало, и ночевать не приходил, а когда Ульяна устраивала скандал, он, ничего не говоря и ни в чем не оправдываясь, пропадал уже на несколько дней. Возвращался неизвестно откуда, грязный, опухший, небритый, с бездумными глазами.
Ульяна ничего не понимала.
Пробовала переменить тактику – разговаривала с Гурием по-хорошему, по-доброму.
Результат тот же.
Пробовала по-другому – разговаривала жестко, требовательно, скандально.
Получалось еще хуже. А когда голову потеряешь, мало что хорошего бывает в семейных отношениях. Да тут еще сыновья без конца болеют… Да у самой нелады на работе (в детском саду недостача по кухне)… Вот и срывалась иной раз Ульяна так, что от бедного Гурия только тень с глазами оставалась. То есть стоял перед ней, хмельной, грязный, поникший, только что руки по швам не тянул, и хлопал глазами, ничего не говоря в оправдание, ни слова.
– Да ты что, – кричала Ульяна, – совсем с ума сошел, что ли?! Если спятил, так я могу в сумасшедший дом устроить, вон он, рядом! – и кивала за окно.
Гурий молчал.
Как он мог объяснить ей свою душу?
Да если б и мог, где взять такие слова, которые для Ульяны показались бы убедительными, а не вздорными, болтовней или сумасшествием?
И он молчал.
– Нет, ты мне скажешь, ты мне ответишь, – бесновалась Ульяна, – ты мне расскажешь, где шляешься! с кем пьешь! по каким притонам ночуешь! В дом – ни копейки, а на пьянку находится? Ах ты ублюдок, ах ты художник чертов, говори, говори!
Он продолжал молчать, виновато свесив голову.
И однажды она не выдержала – ударила его кулаком по лицу. И так это у нее ловко получилось – ударила его кулаком снизу, прямо в подбородок, что Гурий свалился с ног как подкошенный.
– Господи! – всплеснула руками Ульяна, и тут вдруг на мать из детской комнаты бросился Ванюшка, стал в истерике бить ее по животу вострыми кулачками:
– Вот тебе, вот тебе! Ты за что папку, за что, за что?!
Ульяна и сама испугалась: не прибила ли мужика? – потому что он лежал на полу как мумия, пожелтевший, неподвижный. Она слепо, как кутенка, отшвырнула Ванюшку в сторону и бросилась на кухню; схватила чайник, подбежала к Гурию и давай поливать на него.
Удивительней всего: Гурий не только очнулся, но стал ловить струю воды пересохшими губами (с похмелья был), и Ульяна, осознав это, сразу забыла про свой испуг и еще больше взбеленилась:
– А, опохмелиться охота? Головушка забубенная болит? Ножки не держат? Ну, я опохмелю тебя! – и, сняв крышку с чайника, окатила Гурия с ног до головы холодной водой.
Вот уж когда он очнулся враз и полностью! Вскочил на ноги как ошпаренный.
– Ты чего? Что? Чего? – вытаращив глаза, бормотал Гурий.
Ульяна стояла чуть в стороне, смотрела на него насмешливо-холодными глазами и качала в презрении головой:
– Ты посмотри, на кого ты похож! Черт в окаянную ночь – и то краше! Посмотри, посмотри, полюбуйся на себя! – и, схватив за руку, потащила к зеркалу в прихожую.
Да, вид у Гурия был неважнецкий: растрепанные волосы, желтушное лицо, черные круги под глазами, сине-запекшиеся губы, затравленный взгляд… И как смотрит-то на себя? Исподлобья, недоверчиво, будто сам не может понять: он ли это, его ли это рожа в зеркале?
– Хорош, хорош, нечего сказать, – прокомментировала картину Ульяна.
А Гурий ведь опять ничего не говорил, молчал.
– Ну так вот тебе мой сказ, – жестко, решительно произнесла Ульяна, – еще раз повторится – выгоню! Напьешься или из дома пропадешь, мне все равно, – выгоню, и точка!
Гурий продолжал исподлобья смотреть на себя в зеркало. Так же исподлобья взглянул и на жену.
– Чего смотришь? Не понял меня? – в упор спросила Ульяна.
Гурий кивнул: понял. Хоть кивнул – и то ладно. Ульяна удовлетворенно хмыкнула:
– То-то! – и тут же подтолкнула в спину младшего сынишку, который продолжал вертеться около них: – А ты иди, ступай к себе в комнату, играй. Нечего под ногами у взрослых путаться.