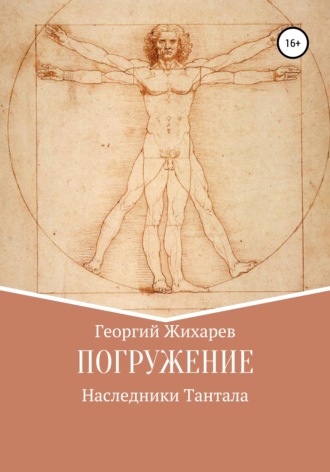
Георгий Валентинович Жихарев
Погружение
За окном загремел встречный поезд, несущийся, казалось с около-световой скоростью. То там, то здесь глаз выхватывал лица, свисающие ноги, запотевшие окна. Мне вспомнился чудо-кит с деревушкой на спине. Было непонятно – то ли поезд сожрал компанию людей и уносил их в свою нору, переваривать, то ли люди, как мелкие паразиты, поселились в чреве огромной железной змеи, и она неслась вперед, еще полная сил, но уже обреченная на гибель. Свет в купе притушился, как огромная театральная люстра перед представлением, по стенкам побежали фонарные световые зайцы. Поезд выскочил на длинный кружевной железный мост, и мы воспарили над рекой – время притормозило свой ход, соблюдая баланс с застывшей за окном картиной. Казалось, что мы не мчимся куда-то вперед, а медленно поворачиваемся в своей кабинке, подвешенной к колесу обозрения. Свет выхватил на секунду лицо Михи – он едва заметно улыбался, больше глазами, чем губами.
6
Когда я был маленьким, у меня были выдуманные друзья. Наверное, странно в этом признаваться, спустя столько лет, тем более, что они благополучно растворились в пубертатном тумане. Я не могу припомнить ни как они выглядели, ни как они появились. Но я хорошо помню, что с ними всегда можно было поговорить, при том, что, чудесным образом, они всегда говорили на одном со мной языке и понимали все, даже самые спутанные мои размышления. Кроме того, они обладали несомненным преимуществом телепатии – с ними можно было разговаривать в кровати перед сном, в душе, в переполненном автобусе, в спортивном зале. Но особенным удовольствием было, конечно, поговорить с ними вслух, шевеля губами, пусть и на уровне театрального шепота. Иногда мне было просто необходимо поговорить с ними, и я мог запросто убежать со двора, выскочить из школьного кабинета, уйти от своих физически осязаемых товарищей, чтобы остаться с ними наедине. Что скрывать, для меня они и были самыми настоящими друзьями, если называть этим словом тех, кто эмоционально доступен тебе в любую минуту и не стремится наклеить на тебя ярлык, не дослушав и первого, совершенно скомканного еще рассказа. Слов таких я, конечно, тогда не знал, но понимал все это очень точно, как сейчас. Самые яркие, живые воспоминания с превеликим трудом облекают себя в словесную форму, зато прекрасно помнится, как ты себя чувствовал. Эти мимолетные ощущения, как ни странно, имеют срок годности какой-нибудь тушенки из стратегического запаса – хватает на пару поколений.
Повзрослев, я часто вспоминал их, наши разговоры. В какой-то момент я наконец понял, что почти никогда не слышал их голосов – все мои разговоры с ними были, по сути, монологами, хотя они вовремя поддакивали, вставляли нужные междометия, и держали себя просто образцовыми слушателями. Они были нужны мне для пережевывания сошедшего с ума потока событий вокруг меня. Мой мир был не более странным, чем мир любого ребенка. Вся наша жизнь – это пересечение внутреннего и внешнего миров. У кого-то богаче внутренний, у кого-то внешний, у кого-то они плохо пересекаются с рождения, а у кого-то – перестают пересекаться в определенный момент. Эти выдуманные друзья были немногословными проводниками меж двух миров, всегда готовые броситься на амбразуру очередного разрыва. Они кропотливо штопали разрезы, замазывали прорехи в плотине, перебрасывали легкие мостики через трещины, слушали чушь, которую я нес, и кивали головами. Кто знает, без них я мог бы и разбежаться с внешним миром насовсем. Кто знает, может быть, мы и называем этот момент смертью.
Друзья ушли, но осталась потребность к разговору. Каждый создает и украшает мир по-своему, и я, без сомнения, был демиургом словесного толка. Все мои лучшие идеи рождались в горячке беседы, в наркотическом запале слово-творения и слово-сочетания, когда мысли рвались наружу в своей истинной, обнаженной форме, едва прикрытые фиговыми листами обыденных слов. В такой момент, мне часто приходилось использовать несколько попыток, чтобы сложить понятную картинку из осколков озарения, извергнутых мною. Я катал их на языке, делая один заход за другим, для собеседника, но прежде всего, для самого себя. В конечном итоге, мы сами для себя – загадка. Какие-то места хорошо освещены, нанесены на карту и посещаемы, но достаточно и темных, немного зловещих закоулков. Именно оттуда и приходят лучшие мысли, зачастую без нашего сознательного участия – нам остается лишь боязливо вынести их на свет на вытянутых руках, и только потом уже разбираться, чего они стоят. И без хорошей компании тут ничего не выйдет.
Что я еще заметил – стихи, как это ни странно, значительно ближе к этой границе между стройными, причесанными рядами размышлений не тему и животным фонтаном откровения, цветаевской крови из вскрытых жил. О, как я всегда завидовал тем, кому легко удавалось обуздать, накинуть лассо рифмы и размера на лихо гарцующую мысль. Пусть легкость была обманчивой, пусть даже стихотворцы платили за дар щедро во многих других смыслах, но эта способность передать не только информацию, но и некую толику «вещи в себе», чего-то понятого, продуманного насквозь, до второго, третьго дна, которые в любой стоящей мысли всегда присутствуют, стоила дорогого. Я думаю, что стих разрешает нашу дуальность логического и сенсорного мышления, подводит общий знаменатель между музыкой и словом, отдается эхом рифм и шлягерными припевами, вызывая нутренной резонанс в чем-то глубоком, мезозойном, в точке сингулярности, с которой началась история человека. Много позже я понял, что и рифма и размер необязательны, но без них еще сложнее шагать по минному полю, еще сложнее наладить мостик к другому уровню сознания. Мне же всегда приходилось работать над словами, упаковывать их в размерные фасоны, играть порядком слов и внутренними рифмами. И пусть я чувствовал себя подмастерьем , в лучшем случае, иные стихи были во сто раз лучше любых моих рассуждений о главном.
Я вспомнил, что за день до поездки записал в телефон стихотворение, которое началось с одной строчки и почему-то всю неделю очень просилось наружу. Электронная запись казалась мне кощунством, но увы, форма в нашем мире радиоактивной информации отошла на второй план. Важно было ухватить слабый свет мысли, пробить к ней дорогу, и то что я давно уже не носил с собой бумагу и карандаш, не могло быть оправданием для умственного безделия. Я подумал – может быть, показать его Михе? Это показалось одновременно и абсурдным, и единственно правильным решением. Я засунул руку в карман и достал телефон.
Во мне звериное нутро разбавлено души наперстком, и кто решил, что в этом жестком пересечении естеств я буду лучшим из существ? Все в этом мне сюжете плоском дается каторжным трудом…Я пробираюсь в темноте – здесь слышен скрип, там воет вьюга, я сам собой, порой, напуган, и зверь рычит, и тянет нить, что не дает про свет забыть, когда в звериной наготе я прячусь там, где все "не те" меня не могут различить, отмерить, взвесить, обвинить. Я прячусь, дожидаясь друга…
Как жить мне между двух миров? Верчусь на ленте я, как йо-йо. Вверху все светлое такое! Внизу – забытый Богом мрак, где для себя я худший враг, хороших я не знаю слов, и даже небо золотое внизу мне шепчет: "эй, простак, ты – зверь, не ангел, все не так прочел ты в книге про благое…" Как жить мне между двух миров?
И я боюсь, что в том весь смысл, в балансировке цирковой на проволоке, с коромыслом, с бравурной музыкой и свистом, и хамом вечным, голосистым, что пауз не даёт артистам на проволоке круговой…
И мне претит вся эта сцена, как будто я застрял во сне, и дней, и лет кружатся числа, схватил я крепко коромысло, и лонжа давит шею мне… И зверь затих, боится тоже, ведь он и я – одна стезя… И хочет ввысь, зачем не зная, и руку помощи кусает, и лижем раны – он и я.
Теперь везде нам по дороге, и в рай мне без него нельзя, а стало быть, теперь друзья… Он смотрит тихо, исподлобья, и тянет к зеркалу рукой… А я шепчу – ах, Боже мой, неужто я – Твое подобье?
7
– Ну, что ты думаешь?
Я не смог удержаться от банального, избитого вопроса. Впрочем, почему – совсем даже не банального. Какое-то пустое ханжество, надуманное лицемерие: одновременно желать получить оценку, но при этом считать это неприличным, дурным вкусом. Откуда это стремление к независимости, самоцельности, когда любой смысл жизни может быть реализован только через другого, только на другом конце электрического разряда. Единственно возможный ответ это трусость. Как страх неизвестности за порогом смерти, только еще хуже, поскольку насмешка, ловкий тролль или меткая кличка могут сделать невыносимыми самые что ни на есть настоящие, живые, посюсторонние дни. И когда страх этот становится свинцовым, легче закрыть окна, нацепить гордую мину, и жить в мире со своим судьей. По крайней мере, пока этот судья не начнет пожирать себя самого.
Миха молчал, глядя на телефон. Я подумал, что плохим знаком это быть не может. Если все так плохо, то он давно бы хлопнул меня по плечу и перевел стрелки разговора. Он тронул экран пальцем, чтобы тот не погас.
– Извини – я хочу еще раз прочитать. Хорошие стихи не ловятся с первого раза. Как электроны. Сначала я должен внять смыслу слова, и только по новому заходу уже можно слушать музыку. Ты не против?
Я глупо улыбнулся. Ощущение, что он застал меня выходящим из душа, не отпускало. Приоткрывать сокровенное всегда сложно, но делать это лицом к лицу, да еще и в печатной форме, не имея возможности прикусить язык, если что, было вдвойне волнительно. Я уже пожалел, что вообще затеял это дело, ведь так хорошо разговаривали, а теперь ставки подняты и градус беседы заколебался на ветру, куда вынесет. Мне вспомнился подсмотренный утром бесполезный факт. Какой-то очередной эксперт утверждал, что только два процента всех разговоров заканчиваются именно тогда (и так, добавил бы я от себя), когда этого хотят собеседники. Одним словом, почти каждый разговор либо растягивается сверх меры, либо засыхает в самом зародыше, не давая теме раскрыться. Представьте себе, если бы подобное можно было сказать о любом другом ежедневном деле? Мне показалось, что я приговорил наш разговор к преждевременной кончине. Но тут Миха очнулся и заговорил.
– Мне очень понравился голосистый хам. Он зацепил меня и по первому разу, и снова – по второму. Это настоящее попадание, очень здорово. Я бы дал ему приз за лучшую роль второго плана! Ну и конечно вся эта цепочка узкой дорожки к свету – нить Ариадны, лента йо-йо, круговая проволока – это вообще отличная идея, ходить по проволоке, но кругом, даже облегчения небольшой площадки, по ту сторону проволоки, не положено. И лонжа. Здесь уже ближе к теме марионетки. Нет, положительно – отличное стихотворение, есть о чем подумать, и мурашки пробежали в нескольких местах. Не знаю, мне кажется, оно сильно бы выиграло от хорошей подачи. Умелый чтец, думаю, вытянул бы его высоко – здесь можно поиграть и темпом, и монотоном, чуть прибавить звук, дать гримасу, но и не переиграть. Пафоса тут много и своего. Это вообще очень сложная грань – как сделать пафос прозрачным, на уровне аромата, а не основного соуса. Для меня все это загадка! Прочтешь мне?
– Нет уж, увольте… Не могу читать свое. Вернее могу, но только про себя – наружу не рвется, совсем.
Мне понравилась его реакция. Не было приторной, убивающей вкус сладости, просто ради красного словца, или ради продолжения беззаботного движения по пути наименьшего сопротивления со случайным попутчиком в позднем купе. Не было и злобы, плохо скрытой иронии, умения похвалить слабое место, чтобы дать понять, как все плохо. Может быть, он чуть-чуть рисовался, строил из себя знатока. Но я был благодарен ему. За что? За внимание, наверное. Он действительно прочитал стихотворение и попытался мне объяснить, что ему понравилось. Это большая редкость. Для этого нужно было принять участие, что стало совершенно непопулярно. Я прекрасно понимал цену своему поэтическому отпрыску, но мне была важна его реакция. И он меня не подвел. Акции Михи продолжали ползти вверх.
– Ну, хорошо. Давай тогда попробуем по-другому. О чем это стихотворение?
– Вот ты спросил, так спросил! Я толком не знаю… Может быть, знал в тот момент, когда печатал эти слова, хотя и тогда – вряд ли. Скорее уж – зачем это стихотворение? Хотелось поймать за хвост посетившее меня ощущение, того самого зверя с наперстком души. Тут смешалась и боязнь своего отражения в зеркале, но главное, конечно, тех мыслей, которые меня посещают часто, постоянно. Мысли, которые, вырвавшись наружу, раскрыли бы мою звериную сущность. И я думаю, что дело тут не во мне – это у всех так. И секрет тут в том, что не все звериные мысли плохи, да и незвериных мыслей в достатке, а в том, что Божий дар, этот наперсток, не делает жизнь проще. Мы не бегаем по лесу в поисках добычи, но нить по-прежнему тонка и запутана, и вообще в душе штормит… А еще и вокруг звери с вполне себе человеческими лицами, которые сидят как маски… Вот все это хотелось поймать, а уж там рифмы и строфы наложились сами собой. Хотелось поймать это настроение. Кто-то рисует, а я как умею…
– Вот за это – спасибо! Это, просто, подарок какой-то. Я часто хотел поговорить с автором строк, задевших по-хорошему. Но чтобы вот так, целостно, да по горячим следам… Удивительно, у-уди-и-вительно.
Мы помолчали минуту, улыбаясь и качая головами в такт вагону. В воздухе разлилась особенная, масляная благодать. Летний вечер, вершина холма, пряный, но с медом запах трав, названия которых тебе неизвестны, хотя ты вырос с ними с самого детства. Закрытые глаза, но ты знаешь, что солнце уже капает мартеновский металл за шкирку дальнему холму. Тепло так, что не понимаешь, где кончается твое тело и начинается тот самый внешний мир, да и есть ли он вообще? На душе нет больших дум, долгов, неотвеченных звонков, непоглаженных детских голов – ты свободен, на минуту, но минута эта имеет чудесный ход. Она длится не вечность, нет, это все глупейшие сравнения, которые мешают жить здесь и сейчас. Нет, эта минута длится столько, сколько нужно, как если бы ты открыл глаза после второго сброса будильника, в надежде, что ровно семь утра, и так оно и есть… Глаза закрыты, и солнышко, обычно прыгающее за холм в неожиданной и необъяснимой спешке, все светит и светит оранжевым сквозь твои веки. Вот такая минута.
Я понял, что просто хотел взять паузу, додумать одну мысль, не расплескав, не спугнув то повисшее в купе особенное настроение. И эта минута была точно по размеру, не больше и не меньше. А додумать я хотел вот о чем. Меня поразила его способность быть открытым. Дело тут было не только в его улыбке, в позе – он всем своим видом никуда не торопился, и в физическом, и в каком-то душевном плане, но и не был расслаблен донельзя. Ни даже в его простой, но опрятной одежде. Сколько всего невербального происходит в нашей зацикленной на словах жизни, каждую секунду. Нет, меня поразило то, что в данный момент времени, в этом купе – я видел его целиком. Он был открыт для нашего контакта, как готовое к поиску блютусной пары устройство. Не пытался что-то получить от меня, и не настаивал особенно на продолжении. Он просто был здесь.
Способность обнажения ума, открытия себя новым людям, мыслям, взглядам, посещает не каждого. Для этого важнейшего состояния должны сойтись звезды. Где-то тут необходимо внешнее воздействие, приятная, или наоборот, неприятная компания, чем гуще, горячее, тем лучше. Где-то нужна интуиция и склад характера. А где-то – дисциплина, привычный вывих самолюбия. Иногда здорово помогает совершить ошибку, сморозить редкостную глупость, особенно тебе несвойственную, выйти из зоны комфорта. А там уже включается и совесть, и скромность, и гордость, желание исправиться. Временами нужно намеренно устраивать себе такие ситуации. Мне стало интересно, как он тренировал свою открытость, хотя может быть, мне попался настоящий самородок.
Поезд не сбавлял ход. Мы вырвались из кольца обжитой земли, и скакали по темному, сонному лесу. Хотелось, чтобы между деревьями выглядывала луна, перебегая с одного просвета до другого со скоростью нашего окна, как, впрочем, и любого другого окна нашего поезда. Но подкинувшие мне перед отъездом хорошего настроения снеговые тучи затянули все небо ватной периной. Темные ряды деревьев были похожи на зрителей в зале, увиденных с освещенной сцены купе, где мы играли свой концерт.
– Ты знаешь, в этом стихотворении есть ростки мудрости…
Он засмеялся своим словам.
– Представляю, как это для тебя звучит, дружище! Не обижайся. Я сам тут глубоко увяз в вопросах мудрости. Знаешь ли, я рос очень способным учеником. За мной даже закрепилась, в какой-то момент, репутация «далеко пойдет». Школа давалась легко, по всем предметам, в институте я вовсе появлялся на лекциях только для приличия, впрочем гордиться тут совершенно нечем… Суть в том, что взамен определенного, понятного таланта, ну или просто его полного отсутствия, мне отмерили пятилитровую бутыль сообразительности. Потому все давалось сравнительно легко, но на обывательском уровне – колодцы мои были неглубоки, довольно быстро пересыхали, и звезд со дна мне увидеть не удавалось. На этапе юности такая формула работает замечательно: после вереницы призовых мест на рядовых соревнованиях, твое лицо становится знакомым для тех, кто имеет полномочия или наглость, чтобы вершить судьбы и раздавать слонов.
– Ну да, а потом становится труднее…
– Еще как! С одной стороны, казалось бы, летай как ветер на широчайшем поле возможностей – куда не пристанешь, что-то да выходит. Но быстро замечаешь, что становишься стрекозой среди разномастных жуков-навозников, откровенных опарышей, о них не будем, но и приличной группы деловитых муравьев, которые строют свой дом, шаг за шагом. А ведь есть еще и прекрасные бабочки, в перламутровых разводах, с размахом крыльев в ладонь. Их собирают в коллекции, и это тоже потихонечку задевает. Одним словом, ты сам начинаешь рыться в земле, что-то строить, поднимаешь изрядную пыль…
– Давай я попробую продолжить. Ты начинаешь строить свой дом, но дела идут неважно. И вроде бы появилась крыша над головой, и много интересных комнат, но… Дом больше напоминает проект Гауди – какие-то башенки, нелепое деревце, торчащее из стены. В чем проблема?
– Проблема в ожиданиях. Все те, кто видели тебя в первых рядах, ждут продолжения этой линии, экстраполируют куда-то в небеса, и весьма довольны, когда видят, что ты не так далеко улетел. И ты вертишься, постоянно шуршишь чертежами, лезешь на крышу с рулеткой, ждешь особенной погоды. Но про себя-то ты понимаешь, что беспокоят тебя не ожидания других, от них можно укрыться, занавесить окна. Нет, тебя беспокоят свои ожидания. У тебя свой гамбургский счет для себя, и он не в твою пользу. И ты начинаешь перегибать палку. В английском есть очень точное выражение “pushing on a string”.
– Толкать веревкой, или что-то в этом роде, так?
– Ну да, применять силу в неправильном направлении. Я почему-то всегда представляю себе, как вставляю нитку в иголку с очень маленьким ушком. Прекрасный способ довести себя до белого каления! И ты сам понимаешь, что нужно успокоиться, перестать загонять себя, размять крылья и сделать кружок другой над лужайкой, увидеть дом свой, жизнь свою, с отрешенной высоты, но что-то мешает. Недостаток мудрости. И главное, ты же вроде был когда-то умником… Но тут нет прямой связи.
Миха перевел дух. Он собирал силы, чтобы занырнуть поглубже. Я старался сидеть очень тихо, боясь перебить его настрой.
– Мудрость не связана с усилением способности мыслить. Скорее с уменьшением, если уж на то пошло. Как бы объяснить? В тебе просыпается способность видеть больше, и одновременно лучше, и затрачивая меньше сил… Ну представь себе, что ты сел играть в новую игру – поначалу, ты даже не можешь сдвинуться с места, потом мучительно овладеваешь прыжками, поворотами, а потом начинаешь замечать детали вокруг, распознавать особенности других игроков. Дальше, больше – ты уже лучше других, у тебя появляется время участвовать во внутреннем чате, вот ты уже удачно пошутил. Ну ты видишь, куда я клоню? Приходит день, когда твои пальцы начинают играть сюиту на клавиатуре, при том, что сам ты расслаблен и видишь – все сразу…
– Я не большой любитель виртуальных игр, особенно в реальном времени, но я понимаю, о чем ты. Я люблю баскетбол, и параллель напрашивается. У нас это называется «видение площадки», умение играть с поднятой головой, когда тебе не нужны глаза для дриблинга, глаза нужны для обманки сопернику, так, чтобы передача шла в противоположную сторону. Где-то читал, что новички на высоком уровне ничего не понимают, не могут успеть за игрой. Им все время приходится искать свои координаты в вихревом поле, и они все время на шаг позади. Самые лучшие передачи для них выглядят ошибками, потому что их нет там, где они должны быть. Но идет время, и, как ты говоришь, приходит день, когда игра замедляется, что-то такое из Матрицы, наверное. И у тебя хватает времени и подумать, и оказаться в точке стыковки – в нужное время, в нужном месте. Проходит мастерство, ты разгоняешь свое мышление, координацию до нужной частоты такта. Теория относительности в действии. Игра не становится медленнее для всех, только для тебя.
– Все правильно. Как замечательно ты подметил про спортсменов. Конечно же, как я сам раньше до этого не додумался. Спортсмен хорошего уровня всегда напоминает мне танцора – скупое, но невероятно точное движение, все тело как одна струна. Скупая красота. Нет, не так. Все гениальное – просто!
– Кстати, знаешь, чья это цитата?
– Даже не догадываюсь. Я думал, это народная мудрость.
Он снова улыбнулся этому так удивительно, в рифму, подвернувшемуся слову. Но в этом не было никакой случайности. Так всегда случается на глубине, мир начинает рифмоваться, иногда с чуть пугающим, гулким эхом, как в горах, перед сходом лавины.
– Говорят, это из книги Геббельса для будущих фюреров. Да, я сам удивился, и с тех пор как-то не дружу с этой прекрасной мыслью. Мне больше нравится другая: «Простота – это то, что труднее всего на свете, это крайний предел опытности и последнее усилие гения». Приписывают Леонардо. Мне кажется, очень вяжется с твоей темой. Мудрость приходит, когда все лишнее убрано, сухой остаток твоих знаний, опыта, умения мыслить, твои пять пальцев… Свобода как осознанная необходимость. Победа над главным демоном, на самом последнем уровне.
Он зачарованно глядел на меня. Пора было задраивать люки, мы были готовы к погружению.


