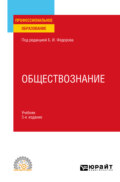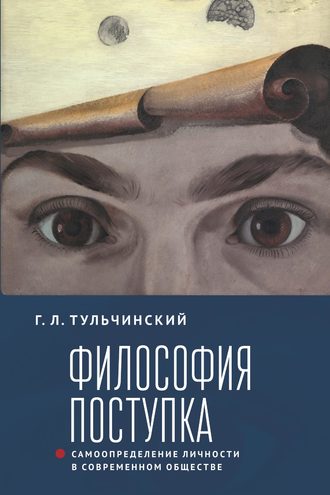
Григорий Львович Тульчинский
Философия поступка. Самоопределение личности в современном обществе
Как бы то ни было, но представляется, что проведенное в данной работе рассмотрение создает концептуальный задел как для дальнейших исследований политической воли, так и концепта воли как таковой.
2.2. Свобода воли: ключ к возможности гуманитарного знания
Проблема свободы воли. Воля как выбор позиции и сопричастность: счастье, свобода и воля. Свобода воли и безответственность
Проблема свободы воли
Природа трудностей выявления воли, ее измерения, как представляется, связана с тремя обстоятельствами. Во – первых, воля, как часть мотивационного механизма – фактор проявления (актуализации, объективации) мотивации, а также интенсивности этого проявления. Однако, как уже говорилось, мотивация диспозиционна, и ограничивает традиционные возможности эмпирического анализа. Во – вторых, воля характеризует не «статику» решений и действий, а их «динамику». Если я принял решение открыть дверь, то воля проявляется не столько в самом стремлении сделать это, и даже не в действии открытия двери, сколько в усилии сделать это. Воля величина не «скалярная», а «векторная». И аппарат такого анализа еще только начинает складываться. В – третьих, воля является характеристикой не любого действия, а только вменяемого (поступка) – вменяемого в обоих смыслах этого слова: действия, во – первых, имеющего рационально выстраиваемую мотивацию, и, во – вторых (вследствие первого), ход осуществления и его результаты можно кому– то вменить.
В этой связи заслуживает внимания проблема свободы воли, в последние годы активно обсуждаемая на новом материале. В XIII – XVIII столетиях она обсуждалась преимущественно в теологическом контексте Божественного предопределения – как и зачем всесильный и всемогущий Творец может допустить свободу выбора? Начиная с XIX столетия в связи с успехами естествознания и расширением научной картины мира, место Божественного предопределения заняли законы природы, причинно – следственные связи явлений, и проблема свободы воли большей частью понимается как соотношение свободы воли и каузальных (причинно – следственных) отношений. Но в любом случае – если все предопределено (Божественной волей или природной каузальностью), то свободны ли мы? Ответственны ли мы за что либо, прежде всего – за свои поступки? Именно разграничение сферы каузальных детерминаций и сферы проявлений свободы воли легло в основу различения естествознания и точных наук (science) и гуманитарных наук (die Geistwissenschaften, humanities). Социальные науки, в этом плане, предстали как пересечение этих предметных областей с явным трендом в течение ХХ столетия в область science.
В наше время экспансия science на сферу humanities продолжилась на материале исследований мозга, искусственного интеллекта. Так, компьютерный анализ данных электрохимической активности мозга позволил предсказывать произвольные действия человека до того, как он сам осознает свое намерение, это действие совершить135. Согласно результатам этих экспериментов, испытуемые осознают желание совершить действие в среднем за 200 мс до совершения самого действия, тогда как на приборах электрическая активность моторных областей мозга, соответствующих формированию потенциалу готовности к действию, фиксируется в среднем за 550 мс до действия. Таким образом, получается, что исследователи могли предсказать действие за 350 мс до того, как сам испытуемый осознавал желание его совершить. Осознание намерения нажать определенную опцию возникает после фиксированного нейронного импульса, вызывающего это действие, а не предшествует ему, как, вроде бы можно было ожидать согласно общей схеме мотивации осознанного действия. Получается, что действие начинается раньше формирования решения о его исполнении. Размышление и принимаемое решение предстают побочными продуктами реализуемой без них каузальной цепочки, к детерминации активации которой они отношения не имеют, а скорее наоборот – ею обусловлены.
Сложился уже целый корпус подобных эмпирических исследований возможности предсказания человеческих действий136. Эти результаты используются в аргументации тезиса о вторичности мотивации, прежде всего – намерений как сознательных интенций. А самое главное – на этом основании делается вывод о неспособности человека контролировать свои действия: зазор между нейрохимической активацией и осознанием мотива открывает возможность внешнего воздействия, неосознаваемой личностью манипуляции ее поведением. Например, электрическая стимуляция премоторной области коры головного мозга вызывает у человека осознанное намерение к совершению определенного действия и даже его осуществление. Извечная философская проблема о соотношении каузальности и свободы воли предстает в новой ипостаси, а отрицание свободы воли получает новые аргументы137 вполне в духе Б. Спинозы, считавшего, что человеческие существа, в силу каузальной детерминированности сущего, лишены свободы воли, необходимой для моральной ответственности138.
Концепция, пытающаяся обосновать совместимость свободы с той или ной формой предопределения (не зависящей от личности детерминации), а, возможно, и необходимость (полезность) такой детерминации для свободы воли, обозначается как компатибилизм (от анлийского «compatible» – совместимый). Отрицание такой совместимости – инкомпатибилизм – в принципе, возможен в двух формах: волюнтаризма и жесткого детерминизма.
Стоит отметить, что обе эти крайности исторически восходят к единому источнику – идее всего сущего как проявления Божественного замысла и божественной воли. Развитие науки, секуляризация заменила Божественное предопределение, с одной стороны, каузальным детерминизмом, доступным выявлению с помощью научных методов, с другой – волюнтаристским индетерминизмом. Последний представлен широкой палитрой от архаичных или обыденных суеверий, анимизма – до рациональных форм психоанализа.
В соответствии с отмечавшейся общей экспансией science, наибольшее внимание в современном философском дискурсе вызывают инкомпатибилизм каузально – детерминистского плана139. «Если детерминизм истинен, то наши действия являются последствиями законов природы и событий в отдаленном прошлом. Однако от нас не зависит, что происходило до нашего рождения, и также не зависит, каковы законы природы. Следовательно, их последствия (включая наши действия в настоящем) от нас не зависят»140. Пожалуй, наиболее жестким детерминистов истории философской мысли был Б. Спиноза, считавший, что человеческие существа, в силу каузальной детерминированности сущего, лишены свободы воли, необходимой для моральной ответственности141.
В истории философской и религиозной мысли был накоплен широкий круг критики и развития такой аргументации. Добротный обзор, выработанных в современной философии аргументов, представлен недавно А.С. Мишурой142, который завершает свой обзор этих дебатов показательным пассажем: «Проблема свободы воли в форме вопроса о совместимости не имеет первичного характера относительно более общих метафизических соображений, скорее, она является некоторой верхушкой метафизического торта. Если вы понимаете, как устроен торт, то понимаете, на чем покоится верхушка. Главную проблему свободы воли можно поставить так: почему проблема свободы воли возникает практически в любом метафизическом торте»143.
В этой яркой метафоре автор прав и не прав одновременно. Прав в том, что действительно, проблема свободы воли занимает некую «финальную» позицию в любом целостном философском построении. Даже если она непосредственно не представлена в конкретном философском дискурсе, его развитие в направлении выводов и применений в практике общественных отношений, позиционирования личности в обществе, методологии познания, – выводят к ней. Так или иначе, но проблема свободы воли играет центральную роль в любой попытке философского осмысления человеком действительности, общества, самого себя и своего места в мире и обществе. А значит, автор не прав, отказываясь от объяснения этой роли и позиции проблемы свободы воли.
Если говорить о метафорах, то хорошо известна формулировка проблемы свободы воли в вопросе Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Обычно внимание интерпретаторов концентрируется на претензии «право иметь» (в т. ч. – на насилие, вплоть до убийства). Но в наши дни внимание смещается на «тварь дрожащую», за образом которой кроется не столько безволие, сколько претерпевающая зависимость. Может ли и как человек «поступить иначе», «жить по своей глупой воле»? Если нет – то почему? И как это принять? А если есть – то как это может быть обосновано и реализовано?
Вернемся к началу обзора А. Мишуры, который начинается с концепции Э. Мура, ответ которого выражен достаточно ясно: «Х мог поступить иначе» означает «Х мог поступит иначе, если бы захотел»144. Перед нами классический пример аналитической философии, сводящей анализ к уточнению вариантов использования языка. Аналитическая философия выработала важный инструмент концептуализации – выявления содержания используемой терминологии. Но концептуализация должна дополняться операционализацией – иначе мы так и остаемся в плоскости рассуждений. Собственно и результат получился «грамматоцентристский», уводящий от конструктивного представления о «сделанности» свободы воли. В лучшем случае она сводится к банальности мотивации – желанию, хотению. Но дело даже не в этом. Новейшие нейропсихологические эксперименты как раз и показывают, что факт хотения предопределен физическим процессом в мозге, который сам, в свою очередь, является частью каузальных связей и последовательностей. И «означаемым» муровского тезиса не оказывается не менее банальный волюнтаризм, не выводящий за рамки обыденного сознания в духе известного упрека: «Что значит – ты не можешь? Значит, ты просто не очень хочешь!».
В философии подобный стихийный волюнтаристский индетерминизм выражается в либертарианстве, согласно которому в мире существует индетерминизм, а люди обладают свободой. Онтологические основания такого подхода в философской традиции обычно связывались с дуализмом или в духе Р.Декарта или юмовскими ограничениями познания причинности. Ныне речь идет о констатации неких каузальных свойств сознания, связанных с особыми возможностями мозга145. Такой подход напоминает арьергардные бои перед экспансией детерминизма. И найти «домик для души и свободы»146 становится все труднее. Парадоксальность ситуации еще и в том, что либерализм как мировоззрение был связан именно с развитием науки и ее этосом методологического сомнения и критицизма. И теперь именно наука ставит под сомнение главную идею и ценность либерализма.
В этой связи, показательным выглядит наблюдение, что обществах с развитой либеральной демократией в моральном, правовом и научном дискурсе господствует объективизм, сводящий мотивацию к актам поведения и прямым высказываниям, описаниям. Что свойственно общей позитивистской ориентации на репрезентацию собственно реальности в языке и наблюдениях147. Но, если человек пьет вино, означает ли это его склонность к спиртному? А если рассказывает не очень приличный анекдот – что он сексист, или более того – маньяк? А если он фотографирует своих малышей голенькими – что он педофил?
Тем самым выводится из анализа возможность иносказания, метафоризации, аллегории, иронии, что, с одной стороны, упрощает правовую и моральную оценку коммуникации, но, с другой, лишает осмысление богатства выразительных форм. Вся культура, прежде всего – искусство, не говоря уже о чувстве юмора, держатся на умении различать иносказание, улавливать подтекст.
Согласно той же оценке, аллегория и другие виды иносказания свойственны обществам с авторитарными, а то и тоталитарными режимами148. В данном случае мы имеем уже дело с проблемой компатибилизма «второго уровня» – с так называемой «фундаментальной ошибкой атрибуции», когда свое собственное поведение объясняется преимущественно внешними обстоятельствами и причинами, тогда как поведение других людей – их внутренними, скрытыми свойствами (прежде всего – мотивацией и волей), проявлением которых и являются поступки149. Согласно упоминавшейся ранее фундаментальной ошибке атрибуции, если я, напрмер, стучу кулаком по столу и хлопаю дверью, то это меня довели до такого состояния. А если это делает кто – то другой, то это он такой несдержанный и вспыльчивый.
Это говорит не просто о якобы хорошем знании людьми своих обстоятельств и о затруднениях в понимании поведения других. В этом случае воля предстает производной от подхода к познанию сознания «в третьем лице». В этом случае, конечно же, в силу ограниченности знания и понимания других, легче все списать на проявления некоей сущности, опредмечивающей сознание других – их загадочной «душой» («чужая душа – потемки») и малопонятной волей. Другими словами, нам свойственно уходить от ответственности за свершаемое нами, и, одновременно, возлагать такую ответственность на других, на окружение.
Между тем, это обстоятельство может дать ключ к концептуализации воли, интегрируя подходы «от первого лица» и «от третьего лица».
Вариант компатибилизма как первичности сознания по отношению к выявлению и даже построению детерминированных систем150, переводит проблему в плоскость сознания, а значит – соотношения свободы и ответственности151.
На уровне здравого смысла детерминизм не исключает возможность свободного решения. Более того, знание причин явлений открывает возможности конструктивной деятельности, выбора способа действия, принятия решения, наконец – творчества. Свобода не только и не столько «осознанная необходимость», но и «осознанная возможность».
В этом плане детерминизм просто необходим – как для простой ориентации, так и для реализации замыслов. При такой здравой постановке вопроса о свободе воли он трансформируется из спора в духе свифтовских остроконечников и тупоконечников в плоскость природы самой свободы, «чувствилищем» которой является сознание. Такой поворот – логичен и мы ему последуем в следующей главе.
Думается, что реальная важность упомянутых исследований состоит в констатации необоснованности принципиального разведения и противопоставления мотивов и причин. Действительно, традиционно проявления свободы воли, а значит и поступки, трактуются в связи с мотивацией. Именно мотивированные действия отличают нас от животных, делают предметными рассуждения, вводящие нас в сферу ответственности и морали. Собственно в рамках этой традиции написана и данная книга. Если действие не связано с мотивацией – случайно или является вынужденным претерпеванием – оно связывается с некоей причиной, не зависящей от воли личности.
В этом плане, упомянутые выше исследования показывают возможность предсказывать действия, традиционно описываемые на языке мотивов, уже на языке каузальности, неких (включая внешние) причин. Поэтому они воспринимаются как угроза представлениям о свободе воли, автономии субъекта, моральной ответственности и т. п. Однако соотношение мотивации и причинности намного тоньше. Всякое ментальное состояние реализуется в мозговом субстрате152, и мотивы представимы в структуре нейронных сетей, сформировавшихся с накоплением опыта личности153, освоением ею социальных практик, памятью этого освоения. Другими словами, мотивы имеют физическую реализацию в нашем мозге. И, если этот мотив привел к совершению действия, то он вправе рассматриваться в качестве причины.
Выход иногда видят в диспозиционности154 сознания, о чем уже писалось в предыдущих разделах155. Не всякое имеющееся у нас ментальное свойство должно быть проявляющимся. Так, например, знание русского языка не исчезает, даже во время сна без сновидений, а понимание английского языка может сохраняться во время разговора по – русски, но оно проявится в разговоре по – английски. Так, по мнению М. Секацкой, мотивы нередко являются диспозициональными свойствами. Как и черты характера, привычки и пристрастия они присущи нам, но для их проявления необходимы подходящие ситуации. «Поэтому, если мы будем считать мотивы диспозициональными свойствами, имеющими определенную физическую реализацию в мозге (выраженную, например, в специфической архитектуре нейронных сетей, сформировавшихся в результате опыта, накопленного конкретным человеком), то предсказание поведения человека на основе анализа активности его нейронных сетей не будет опровержением того, что он поступает в соответствии с мотивами»156. Схожую точку зрения предложил А. Миле, используя термины «присутствующих» и «проявляющихся» интенций (standing and occurent intentions). Согласно А. Миле, «присутствующие» интенции могут быть причиной и «проявляющихся» интенций и следующих за ними действий157.
В упоминавшихся экспериментах речь идет не просто о мотивах, а об осознанных мотивах. И это осознание происходит уже после того, как, согласно условиям эксперимента, процесс движения уже запущен. Но обосновывает ли это вывод, что мотив не играет каузально значимой роли? Что наше сознание не является причиной наших действий? И существуют ли мотивы только в тот момент, когда мы их осознаем? Важно не только то, в какой момент сам человек осознает один из своих мотивов. «Важно и то, какие еще мотивы у него есть и как именно они будут влиять на его действия – от этого, в том числе, зависит, будет ли он действовать, руководствуясь только проявляющимся мотивом А, или есть шанс, что у него проявится также и диспозиционально имеющийся мотив Б»158. И тогда, если отказаться от этих предпосылок, то окажется, что предсказуемость действий не лишает нас статуса рациональных агентов.
Кроме того, играет свою роль и инстинктивная зависимость поведения от соответствия одному из базовых инстинктов: самосохранения, питания, размножения, территориальный… Человеческое мышление и поступки опосредованы этими базовыми инстинктами через древнейшую лимбическую систему мозга. Ни одно действие человек не совершает без предварительно одобрения и подкрепления этой системой своих мотиваций и поступков. И наоборот, эта система через гипоталамус блокирует все ненужные и вредные начинания.
Нельзя выпускать их внимания и фактор памяти (долговременной и кратковременной) – четкого и операционального критерия сознания. Вменяемость индивида в медицине, в суде, просто в быту определяется и тестируется способностью помнить факты своей жизни, увязывать их в целостную нарративную картину. Можно сказать, что память – ничто иное как система ё связей нейронов различной степени устойчивости. Но эти связи фиксируют опыт личности, задают систему ориентации в действительности, а значит – и систему мотивов различной степени релевантности в каждой ситуации.
Над близким подходом вот уже более 50 лет работает Р. Кейн, увязывающий свободу воли не только и столько со свободой действия, сколько с формированием самости личности, ее мотивов и целей, обусловленных предыдущим опытом, воспитанием159. Фактически, речь идет о социализации и индивидуализации личности, как актора, о чем подробно говорилось в первой главе этой книги.
Еще Д. Локк в XVII столетии говорил, что дело не в свободе воли, а в свободе агента, актора. Р.Кейн развивает эту идею в направлении, предложенном критиками Локка т том, что сама свобода агента следует из свободы воли, которой агент наделен, как личность, что делает его «изначально ответственным»160. Приходится признать, что Кейн подошел к идее ответственности существенно поверхностней, чем М. Бахтин с его «не – алиби в бытии». Для Кейна ответственность – следствие выборов, обусовленных мотивацией. «Изначальность» у него – привязка к наделенности личности сознанием и самосознанием без объяснения источников их формирования сознания (которое Кейн иногда понимает как синоним воли). У Бахтина само сознание вторично по отношению к ответственности, только инструмент и мера осознания действительно изначальной ответственности. Эти идеи подробно развиваются нами в разделе, посвящено природе свободы, которая является, по сути дела, эпифеноменом социально – культурного опыта, коммуникаций, в которых «другие» грузят личность ответственностью, результатом чего являются сознание и осознание свободы.
Правда, Р. Кейн часто говорит о роли саморазвития личности, как процессе прохождения жизненных ситуаций, развилок выбора. В этом плане самость личности предстает постоянным процессом, а сама личность – «незавершенным персонажем»161. С этой точки зрения – и детерминизм и свобода воли – нарративы различного уровня. И это представляется принципиально важным.
Аналитики и дискуссии в плоскости «детерминизм – индетерминизм», «компатибилизм – инкомпатибилизм» – интересны, поучительны и стимулирующи, но они не приближают к ответу на вопрос о возможности свободы воли. Наш мир, как справедливо отмечает Л. Свендсен, имеет свойства и измерения не только физические, но и этические162. Мы относимся друг к другу не только как физические объекты, но и как члены сообществ, политические акторы. Свобода – не абстракция, а ситуативно обусловленная практика ответственного вменяемого поведения. Аналитический философ Д. Деннет, квалифицирующий себя в качестве «умеренного реалиста», признает свободу воли, мораль, ответственность и личность как «полезные фикции». Но польза от них не только в духе Ф. Ницше (приписывать свободу, чтобы потом судить и наказывать), но для рационализации отношений (не только миежличностных), которые реально существуют в обществе.
Свобода и сознание (как его «чувствилище») обретаются только в обществе, как результат «загрузки», «инсталляции», «вращивания»163 программ социально – культурного опыта. Вся система социализации (воспитание, образование, запреты, убеждения, принуждения, личного примера, поощрения, наказания) вырывает нас из причинно – следственных связей, перекручивая и замыкая их, как в ленте Мебиуса, на нас самих, превращая нас в causa sui. Это не чашка упала – это ты ее уронил. Мог уронить, мог не уронить. Уронил – значит, это сделал ты. Так открывается изначальная связь свободы и ответственности. Границы свободы и ответственности совпадают, как две стороны одного листа бумаги. И свобода – результат вменения ответственности. Культура, «другие» грузят нас ответственностью, вменяя вменяемость.
Только после и посредством такого вменения формирующееся самосознание личности становится чувствилищем добытийного начала бытия, каковым является свобода – не феномен, а ноумен. Тем самым мне становится доступным выход на новый уровень – добытийный и внебытийный уровень свободы, выход, как говорил М.М. Бахтин, в позицию вненаходимости. Человек становится способным, подобно хоббиту Бильбо Бэггинсу из фэнтези Д. Толкиена, совершить путешествие «туда и обратно». Туда – из мира сущего в трансцендентный мир сверхреального возможного. И обратно – из мира возможного в мир сущего. Свобода не столько познанная необходимость, сколько осознанная возможность
Сознание, разум – вторичны по отношению к ответственности, выражая меру ее осознания. А значит – и меру свободы – одного из проявлений сознания, открываемого только в нем и с его помощью. Чем в большей степени личность интеллектуально развита, чем шире горизонт ее знаний, тем в большей степени она осознает возможные последствия своих действий и поступков.
И вне свободной (вменяемой) личности рушится система морали и права. В любой своей ипостаси – как «от первого лица» (в личностно – персонологической феноменологии), так и «от третьего лица» (в нормативно – ценностной социальности) свобода оказывается «продуктом» культуры – как условия и механизма социо – и персоно – генеза164, дающим возможность человеку, в отличие от животного, выйти в другое измерение, трансцендировать в иное, что наделяет человека способностью действовать вопреки миру.
Но вырван ли наделенный свободой воли актор из сети причинно – следственных связей и отношений? Детерминизм не исключает возможность свободного решения. Более того, знание причин явлений открывает возможности конструктивной деятельности, выбора способа действия, принятия решения, наконец – творчества. А детерминизм просто необходим – как для простой ориентации, так и для реализации замыслов.
Поэтому признание фундаментальной роли ответственности открывает возможность обоснования компатибилизма (от анлийского «compatible» – совместимый), – совмещения мотивации и каузальности165. Но «изначальная ответственность» есть не следствие свободного выбора166, а предопределяет его. При этом важна мысль о личности как «незавершенном персонаже», развивающейся в прохождения жизненных ситуаций, развилок выбора167.
В силу конечности личности, ей не дана вся полнота знания. Но идея «неполноты» вменяемого субъекта воли открывает перспективу анализа воли, как активности, направленной на изменение реальности, что предполагает некое расширение горизонта знания168. Эпистемологической основой такого акта (как, впрочем, и реализации самого феномена) является «онтологическое (экзистенциальное) допущение»169. Так, в решении задачи мы должны допустить существование искомого x, как и данных условия задачи. Тогда задача сводится к приведению данных в такую конфигурацию, чтобы найти путь к получению x. В научном, художественном и любом другом творчестве ситуация в точности та же. Онтологическое допущение о едином статусе неизвестного и хорошо известного – главное условие принятия решения, интерпретации, метафоризации, понимания. Их условием является приведение в единство должного и сущего и переживание личностью своей сопричастности этой единой плоскости реально существующего и желаемого должного, тому, чего еще возможно нет, но что, как представляется, должно быть.
Несомненной заслугой инкомпатибилистов является рассмотрение практических следствий отсутствия свободы воли. Жесткий детерминизм редуцирует обращение с людьми к обращению с прочими объектами живой и неживой природы. А об этом, пишет С. Смилянски, лучше никому не рассказывать, иначе обществу конец170. Если все происходящее – следствие причинной детерминации, то исчезают всякие основания для идентичности «самости», а значит – для права, морали, воспитания, в основе которых лежит «презумпция» ответственности за свободные решения. Правда, согласно Д. Перебуму, следуя этой парадигме вполне возможно пересмотреть право и мораль в плане более гуманного отношения к девиациям, ошибкам и промахам171. Буквально реализуется спинозистская максима: не плакать и не смеяться, но понимать.
«Второй фронт» (наряду с данными нейропсихологии) экспансии science и причинности на сферу гуманитарности создают современные маркетинговые практики nudge с использованием Big Data и IoT. Казавшееся фантазией допущение, что когда – нибудь, возможно, ученые смогут выявлять чьи – то диспозициональные мотивы и предсказывать следующие за ними действия, сбылось. Технологии, опирающиеся на Big Data и IoT, дают объективистской «фундаметальной ошибке атрибуции», когда мотивация сводится к самим поступкам, возможность практического применения: получается, что маркетинговые программы знают нас лучше, чем мы сами, а проявления воли становятся инструментом ее подавления.
Поскольку эти технологии имеют огромный потенциал по изменению нашей жизни, постольку следует правильно понимать проблему. И она состоит не в том, что будет доказано, что у нас нет свободы воли, и поэтому мы не несем ни за что моральной ответственности, а в том, что люди получают непосредственный доступ к диспозициональным мотивам других людей. Такой гуманизм, в конечном счете, ничем не лучше техницизма. Обе версии на практике оборачиваются тоталитарными антиутопиями.
С объективизмом и каузальным инкомпатибилизмом смыкается и радикальная сопричастность в духе избавления избавление от «цепляния» за идентичность, отказа от самости во имя здоровья и «расширения сознания». Противоположности крайнего объективизма и крайнего субъективизма, познания самосознания «от третьего лица» и «от первого лица» – сходятся. Путь к счастью в обоих случаях предполагает и ведет к элиминации субъекта самосознания и ответственности – полную деперсонализацию.
Однако на то и крайности, чтобы задавать границы шкалы, на которой реализуется реальное поведение. Человек – социальное существо, наделенное социумом ответственностью, а значит – сознанием и памятью. И это открывает выход из круга инверсий.
В этой связи содержательные аргументы против имкомпатибилистской интерпретации экспериментов, якобы дискредитирующих свободу воли, предложил Д. Хенрих, согласно которому приписывание эксперименту доказательной силы против действительности свободы, «…исходит из усеченного представления об обдуманной деятельности. Если мы снимем это усечение, то для нас откроется иная перспектива взгляда на проблему свободы». Эту перспективу Д. Хенрих связывает с отказом от трактовки акта свободы воли в плане «самораскрытия», когда актором понимается как causa accidentis sui (причина собственной акциденции), к трактовке в плане «самоопределения». Это позволяет исключить «возможность того, чтобы то, что происходит из собственной сущности некоторого существа, было бы все же возложено на него с необходимостью и безальтернативно». Свобода воли как самоопределение заключается в способности «определять самое себя в подобной ситуации к некоторой активности. Во всяком случае, лицо может приписывать себе такую способность, и ничто в его сознании как деятеля этому не противоречит». Если в плане самораскрытия выстраивается некая линейная временнáя физическая последовательность, то в плане самоопределения реализуется нарративное самообъяснение происходящего. Следует добавить, что нередко – задним числом, post factum.
В принципе, такая трактовка соответствует пониманию мотивации не как причины, но как объяснения действий, о чем говорилось в предыдущей главе. Такое объяснение иногда носит характер поздней (защитной) рационализации. И как там же было отмечено – это хотя и не много, но и не так уж мало. Потому что такие самоообъяснения (самоопределения) определяют не стимульные реакции конкретных действий, а общую стратегию важного и допустимого поведения в общем нарративе жизненной стратегии. Другими словами, свобода как самоопределение выражается не столько в намерении нажать именно такую опцию, сколько в согласии принимать участие в подобном эксперименте. Свобода заключается не в творении «из ничего», а в способности «придать той жизни, в которой находит себя человек, последовательность, ясность и направление в ее сознательном осуществлении».