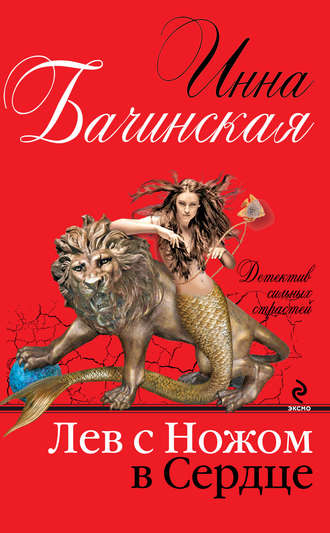
Инна Бачинская
Лев с ножом в сердце
Глава 5
Отчий дом
Павел Максимов расплатился с частником, который с облегчением рванул прочь так, что только шины заскрипели. Через минуту шум мотора растворился в глубокой тишине Посадовки, где Павел не был целую вечность. Где-то залаял потревоженный пес, и снова стало тихо. Здесь было холоднее, чем в городе. Неярко горел фонарь у продуктового магазина, облик которого не изменился за прошедшее время, разве что появились в витрине разноцветные импортные упаковки да бутылки кока-колы.
Он постоял посреди площади, привыкая. Глубоко вдыхал холодный воздух. Если в городе накрапывал мелкий дождь, то здесь, видимо, прошел ливень. Фонарь отражался в большой луже, и отражение его казалось опрокинутой луной. И облака здесь висели ниже, чем в городе. И пахло иначе – мокрой землей и молодыми листьями, а не асфальтом.
Павел свернул в знакомую кривоватую улочку. Маша права, строительство здесь шло полным ходом – терема перли из земли, как грибы. Двух-, даже трехэтажные, с башенками, колоннами, иллюминаторами вместо окон, они отгораживались от мира высокими бетонными заборами. Над входами горели светильники, ворота заперты наглухо. Улица заасфальтирована, даже фонари не разбиты поселковой шпаной, как бывало в его времена.
Родительский дом, казалось, стал меньше. Врос в землю, постарел, пока Павел отсутствовал. Он прятался в тупичке, где нет фонарей и тьма стоит кромешная. К счастью, ночь оказалась не абсолютно темной, несмотря на низкие облака.
Павел отворил калитку, пошел по выщербленной кирпичной дорожке. Ветка яблони мазнула его по лицу, оставив мокрый след, и он невольно рассмеялся. Дом возвышался перед ним темный, притаившийся, чутко прислушивающийся. Ему показалось, дом рассматривает его невидимыми глазами. «Это я, – сказал он. – Вернулся. Здравствуй!» В глазах защипало, что удивило его безмерно – Павел никогда не был сентиментальным.
Он поднялся по скрипучим ступенькам на крыльцо, достал ключ, на ощупь нашел замочную скважину. Ключ с трудом повернулся, издав громкий скрежет. Дверь тяжело подалась, из дома пахнуло холодом и сыростью. Он переступил порог, щелкнул кнопкой – рука сама нашла выключатель, по старой памяти. Свет брызнул жидкий, выморочный. Осветил какие-то коробки, всякий хлам, который немедленно наползает ниоткуда и заполняет брошенное людьми жилье.
Он споткнулся не то о грабли, не то о лопату; обрушил на пол, чертыхнулся. Грохот, подхваченный эхом, раскатился по спящему поселку.
В доме было сыро. Павел прошелся по комнатам – гостиная, спальня, еще одна, крохотная каморка, которую отдали ему, как старшему, чему Маша очень завидовала. Здесь, видимо, жил племянник – валялся забытый желтый медвежонок, да занавески были ярко-желтые, в зверушках. И еще одна, кабинет, как отец ее гордо называл. В ней когда-то жила Оля…
Павел с трудом приоткрыл перекошенную дверь. Об этой комнате, видимо, и говорил Юра. Той, где его вещи. Он стоял на пороге, удивленный, осматриваясь. Усмехнулся – у Юрика, оказывается, была здесь своя жизнь и свои тайны.
…Дрова он нашел на кухне. В доме имелся газ, но для тепла топили печку. Павлу удалось разжечь ее только через полчаса – отвык, потерял сноровку. Дрова отсырели, и кухня наполнилась вонючим сизым дымом. Он заметил плесень на полу у окна – из-за неплотно пригнанной рамы оттуда текло при непогоде.
Поленья наконец занялись. Дым скоро вытянуло сквозняком, вольготно гуляющим по дому – Павел отворил все окна и двери. Он сидел на корточках у открытой дверцы печки, чувствуя сухой жар огня. Трещало, сгорая, дерево, наполняя дом теплым духом.
Впервые за много лет у Павла стало удивительно спокойно на душе. Он смотрел бездумно на оранжевые пляшущие языки огня, подставляя лицо и руки теплу, и пламя отражалось в его глазах.
Павел притащил к печке одеяло, простыни, подушку и разложил на табуретах – пусть подсохнут. Из крана капала ржавая густая жижа. Он не поленился, сходил к колонке. Вскипятил воду. Покопался в снеди, собранной Машей, достал жестянку с чаем.
Он сидел, набросив на плечи плед, на веранде, в ветхом кресле. В нем когда-то любила сидеть мама. У ног стояла керамическая кружка крепкого чая, над ней вилось облачко пара. Он невольно улыбнулся, вспомнив Юру. И посочувствовал ему. Удивительное чувство, которому и названия-то сразу не подберешь, охватило его. Чувство дома, возвращения, свободы. От всего этого он отвык за восемь долгих лет. И блаженное чувство одиночества…
Он сидел на веранде, грея руки о кружку с чаем. Облака растворились постепенно, и небо прояснилось. На нем появилась первая неуверенная дрожащая звезда. Другая, третья… Павлу казалось, что дом превратился в корабль, неторопливо плывущий в далекие края. Мягко работают послушные механизмы, горят огни, бушует в топках пламя. А он – капитан. Корабль, где один лишь капитан, а команды нет. Корабль плывет, капитан пьет чай. Ночь вокруг. Ночь и одиночество. То, чего ему так не хватало. Одиночество, которое иногда – благо.
Уловив краем глаза движение справа, Павел резко повернул голову. На перилах веранды сидел громадный черный кот и, щурясь, смотрел в освещенное окно кухни. Зверь в свою очередь взглянул на Павла – несколько долгих секунд взгляды их, сцепившись, удерживали друг друга. Кот, видимо, поняв, что человек не представляет опасности, снова уставился в освещенное окно. Зрачки в желто-зеленых кошачьих глазах стояли вертикально.
Глаза Павла привыкли к темноте, и он стал различать деревья, кусты, скамейку под… яблоней, кажется. Скамейка была его ровесницей – он помнил ее столько же, сколько помнил себя. Отец сидел под яблоней, мама – на веранде. Розы еще были, вспомнил Павел, темно-красные, которые он рвал тайком, чтобы подарить девочке. И высокие синие цветы с каким-то странным названием – что-то связанное с… морем? Как же они назывались? Мама среза́ла несколько длинных стеблей, ставила в высокую зеленоватую вазу толстого стекла… Ваза была похожа на страусиную ногу. Как же они назывались? Дельфиниум! Ну да, дельфиниум. От слова «дельфин», наверное. Или от города Дельфы?
Всплывали какие-то картинки из детства. Отец в майке, мама в выгоревшем сарафане. Соседи. Долгие посиделки вечерами, чуть ли не до первых петухов. Жизнь простая, патриархальная, небогатая – как у всех. Жизнь на земле и при земле. Такую воспевают поэты, никогда не жившие в деревне, а те, кто родился здесь, изо всех сил стремятся удрать в город.
Иногда Павел думал: хорошо, что мама не дожила до… всего этого. Обвинений, суда, допросов; дурного, истеричного любопытства Посадовки она бы не вынесла. Отец умер от сердечного приступа год спустя. Весь год он обивал пороги, пытаясь помочь сыну. Надев ордена, ждал под кабинетами…
Много воды утекло. Павел отсидел положенное от звонка до звонка. И так пусть скажет спасибо, что не двадцать, а всего восемь… Повезло.
Он не жаловался на судьбу. То, что произошло с ним, он принял… безоговорочно. За все нужно платить. Рано или поздно. Он верил подспудно, невнятно, на уровне инстинкта, в конечную справедливость, воздаяние по делам…
Он подбросил в радостно гудящую печку дрова, заварил свежий чай. Достал кусочек мяса, предложил гостю, все еще сидевшему на перилах. Кот внимательно посмотрел ему в глаза, и только после этого перевел взгляд на угощение. Осторожно взял из рук, стал есть, тряся головой. Наступил лапой, чтобы не уронить. Умный зверь.
Кажется, Павел задремал. Треснувший сучок разбудил его. Он взглянул на часы. Три. Треск разбудил и черного кота. Он потягивался на перилах, выгнув спину, хвост торчал кверху, как древко знамени. Павел, рассеянно глядя на кота, прикидывал, не постелить ли себе на веранде. Холодно, зато воздух свежий. А дом пусть протопится за ночь…
Он взял с пола кружку с остывшим чаем. Поднес ко рту, и в этот самый миг вдруг громыхнул ружейный выстрел! Павел увидел вспышку в кустах рядом, выронил кружку и бросился на пол. По-пластунски преодолел пару метров освещенной веранды, перемахнул через перила. Кота как ветром сдуло. Павел упал в мокрые заросли каких-то кустов и прошлогодних стеблей, зарылся поглубже, ощущая лопатками направленное на него дуло. Замер. Но выстрелов больше не последовало. Не открылись окна, не захлопали двери, не раздались испуганные голоса – Посадовка за свою историю и не такое видела. Здесь свято блюли основной закон выживания: если на улице стреляют, не стоит подходить к окнам.
Тишина вокруг была вязкой – ни звука шагов, ни шелеста потревоженной ветки…
* * *
– Лиза, Элизабет, Бетси и Бесс, – сказал он в трубку и замолчал. Я слышала его прерывистое дыхание – волнуется?
– Добрый вечер, – ответила я. – Это Лиза, остальные уже ушли.
Он рассмеялся.
– А вы все не уходите и ждете моего звонка?
– Много работы, – ответила я. – А… вообще-то, жду!
– Я знаю, – он снова рассмеялся. – Я тоже жду, когда смогу позвонить. Думаю о вас все время… У вас несовременное имя, Лиза. И вы необыкновенная.
– Откуда вы знаете?
– Я чувствую. У вас приятный голос, Лиза. Я готов слушать вас… все время.
У него тоже приятный голос. И хотя говорит он банальности, я готова слушать его постоянно. Мы болтаем о всякой ерунде. Его зовут Игорь. Игорь… и все! Он художник. Живет один. Сначала я в это верила, а теперь… не очень. Что-то здесь не то, подсказывает мне мой не шибко богатый опыт общения с противоположным полом. Если он одинок, то почему не приглашает меня в свою мастерскую посмотреть картины? Предлог просто валяется под ногами – нагнись и подними. Кто откажется взглянуть на картины? А он не зовет. Не хочет? Зачем тогда звонит? Раз или два в неделю, в разные дни, но всегда в одно и то же время… В половине девятого. Я рада его звонкам, хотя и недоумеваю.
Может, он уродлив? Калека? Или слишком робок? Ни за что не поверю, художники не бывают робкими. Они бывают странными, не от мира сего, чудаками, но робости в них нет – видимо, из-за богатого воображения.
Он позвонил впервые около двух месяцев назад, в марте. Днем. Случайно, ошибся номером. Так он сказал. Спросил, какой номер у меня. Извинился и повесил трубку. И на другой день позвонил снова и сказал… «Странная вещь получается, – сказал он, – набираю совсем другой номер, а попадаю к вам. Как вас зовут?»
У него был неуверенный голос, казалось, он не ожидал, что я отвечу. Я ответила. Он рассмеялся довольно. И сказал, что его зовут Игорь.
За два месяца можно много узнать о человеке и еще больше придумать – внешность, например. Он невысок ростом, представляла я себе, с приятными манерами, мягким голосом… Про голос я, кажется, уже говорила. Может долго молчать. Рассеян. Созерцателен. Смотрит испытующе, нагнув голову к плечу, лбом вперед, словно бодая собеседника. Хочет запомнить, а потом нарисовать.
Он сказал, что пишет маслом, но больше любит акварель. За прозрачность и чистоту. Когда-нибудь он покажет мне свои работы. Когда-нибудь… Когда?
В нем меня удивляет какая-то… как бы это объяснить… «Как это будет сказать по-русски», – говаривал персонаж какого-то произведения… Нерешительность, что ли. И несовременность. Мы по-прежнему на «вы», ему не приходит в голову перейти на «ты». Все молодые люди, которых я знаю, переходят на «ты» если не в первую минуту знакомства, то уж во вторую наверняка. Может, он немолод?
Он спросил меня, это домашний телефон или рабочий? Любой на его месте, узнав, что рабочий, тут же попросил бы домашний. Он не спросил о телефоне, а спросил, чем я занимаюсь. Услышав, что я пишу письма, обрадовался.
– Ваша работа отвечать на письма? – переспросил он. – И что же вы им… говорите?
– Утешаю в основном, – пояснила я.
– Да, вокруг так много несчастных людей, – сказал он. – А… они вам верят?
– Верят. Когда человеку плохо, он рад любому, кто готов его выслушать. А я всегда… на посту.
– А кто вам пишет? – спросил он.
– Девушки в основном.
– Они пишут о любви? – уточнил он. И вопрос его был не праздным – чувствовалось, что тема его затронула.
– О чем еще могут писать девушки?
Он засмеялся.
– Знаете, я думаю, что любовь, даже безответная, все равно удивительное чувство. Как ураган.
– Ураган? – удивилась я.
– Ну да. Все сметает и рушит на своем пути. Даже дышится по-другому…
– И выворачивает с корнем деревья.
– Да, бывает. А письма… интересные?
– Иногда… нечасто. Все брошенные жалуются, и жалобы их удивительно однообразны. Тем более не все умеют грамотно писать. Иногда я чувствую себя учительницей…
– Хочется поставить двойку?
– Хочется. Но ведь пишут не от хорошей жизни, а чтобы получить утешение. Вы не представляете себе, как хочется услышать что-нибудь вроде: дорогая Лена, все будет хорошо, поверь мне. Ты еще встретишь свою любовь…
– Представляю, – ответил он. – Очень даже представляю. А потом, когда все заканчивается хорошо, они пишут вам… ну, рассказывают, что все наладилось?
– Пишут… иногда. Даже зовут на свадьбу.
– И вы…
– Нет. Я никогда не отвечаю на приглашения.
– Понимаю, – говорит он после паузы. – У вас семья?
Переход был слишком резкий, и я промолчала. Он понял и сказал:
– Извините.
…Семьи у меня нет. Иначе я не сидела бы на работе допоздна. Мог бы сам догадаться. С шестнадцати лет я одна. С тех самых пор, как умерла Светлана Семеновна, единственный близкий человек, которого я знала в жизни, директриса городского детского дома. Если бы не она, кто знает, кем бы я выросла? Когда мне исполнилось восемь, Светлана Семеновна забрала меня к себе. Я никогда не спрашивала ее о моих родителях, но она сама рассказала, что меня оставила в роддоме молоденькая женщина, совсем девчонка. Ее привезли чуть ли не с улицы ночью, она родила девочку – меня – на удивление легко, а утром удрала, бросив младенца на произвол судьбы. Ни паспорта, ни других документов при ней не было. Даже имени ее никто не знал. Не спросили, не до того было. Нянечка помнила только, что она «орала дюже». И колечка обручального на руке не оказалось. Удрала под утро, не оглянувшись, не увидев своего ребенка, прямо в больничной, не по росту, сорочке…
Меня, как всякого брошенного ребенка, жгуче интересовал вопрос: думает ли мать обо мне хоть иногда? Вспоминает? Не котенок ведь… человек! Маленький, беспомощный, слабый… Или, перепуганная до смерти, она бежала куда глаза глядят, не желая ни видеть меня, ни слышать, желая только одного – удрать и забыть, как страшный сон?
Став старше, я поняла, что моя молоденькая мать была несчастной глупой девчонкой, брошенной дружком, и ребенок ей ни к чему. Слава богу, хоть не извела…
Но это потом. А пока я придумывала себе всякие истории о том, что меня похитили у матери и она до сих пор ищет своего ребенка и сходит с ума от горя. Мне хотелось куда-то бежать, кричать, что я здесь… Я стала замкнутой, мне казалось, что меня нарочно прячут, а мама моя на самом деле пишет во все уголки страны, даже сюда, в наш детдом, ищет меня, а мне эти письма не показывают и только шепчутся за спиной.
Светлана Семеновна, прекрасно понимая, что со мной творится, сказала однажды: «Лизочка, послушай меня, родная! Человек иногда совершает странные поступки. Твоя мама была совсем девочкой, говорили, ей тогда было не больше шестнадцати. Кто знает, как сложилась ее жизнь? Никто не знает. Но твоя жизнь у тебя в руках. Ты не погибла, не пропала, ты умная девочка – надо быть благодарной судьбе за это. Я тебя очень люблю. Возможно, в один прекрасный день вы встретитесь… ты и твоя мать. Она знает, где тебя искать. А пока учись, набирайся сил, ума-разума. И помни: мы тебя любим, мы твоя семья…»
…Я по-прежнему живу в квартире Светланы Семеновны – я стала ее семьей. Другой у нее никогда не было. Светлана Семеновна не могла иметь детей и всю жизнь возилась с чужими. А моя молоденькая глупая мама могла! И сбежала от меня. Иногда я представляю, что у нее теперь семья, другие дети – мои братья и сестры… Вспоминает ли она обо мне? Хоть изредка? Помнит ли мой день рождения? Ведь она даже не знает, как меня зовут…
– И что же вы советуете брошенным девушкам? – спрашивает Игорь.
– Оглянуться вокруг. Кстати, мне пишут не только брошенные девушки.
– Неужели парни тоже пишут? – не верит он.
– Пишут, но редко. Мне пишут девушки, которые хотят любить. Они спрашивают, где можно встретить доброго, надежного, честного. Единственного…
– И вы…
– Я говорю – ждите.
– И надейтесь?
– Да.
– Удивительно, – говорит он, – игра под названием «Любовь» тянется тысячелетия и до сих пор… актуальна! И никакая сексуальная революция ее не убила.
– Только слегка придушила, – говорю я.
Он смеется. Вообще, он легко смеется, и я понимаю, что его радует наше общение. Меня тоже. И нам все равно, о чем говорить. Обо всем, ни о чем. Он тоже одинок?
– Извините, – говорю я с сожалением, – мне нужно еще поработать.
– До завтра, – прощается он. – Я позвоню. Спокойной ночи…
– Вы звоните из автомата? – спрашиваю я вдруг. Мне слышен шум мотора.
Он отвечает не сразу – думает. Потом говорит:
– Нет, я просто стою у открытого окна…
Глава 6
Будни «Елисейских полей»
– Как жизнь, Лизавета? – спросил Аспарагус, появляясь на пороге моей комнаты. Лицо у него расстроенное.
– Хорошо, Йоханн Томасович, – ответила я. – Что-нибудь случилось?
– Случилось уже давно. А сегодня я в очередной раз спросил себя, какого черта я здесь делаю.
– Йоханн Томасович, я не представляю «Поля» без вас, честное слово. Вы придаете журналу блеск. Если бы не вы, он ничем бы не отличался от своих пошлых собратьев, где одна реклама и секс. – Свою реплику я подала без запинки, как по-писаному. – Вы очеловечиваете его. Ваш стиль и эрудиция придают ему вес. Без вас он бы умер!
– Спасибо, Лизавета, – сказал главред, и голос его дрогнул. – Я благодарен вам, хотя и понимаю, что это неправда… то, что вы сейчас сказали. Не перебивайте меня, Лизавета, – он предостерегающе поднял руку, видя, что я открыла рот, собираясь возразить. – Скажем, не совсем правда. Молодежь считает меня старым ретроградом, которому давно пора на свалку. Аэлита ждет не дождется, когда я исчезну и она займет мое кресло. Эрик тоже… Кстати, Лизавета, вы заметили, что уже третий день на нем розовые носки?
– Не заметила, Йоханн Томасович. Но обязательно посмотрю. Завтра же утром. Сегодня не получится, я думаю, он уже ушел.
– Я не понимаю, как вменяемый человек может носить розовые носки. Даже нетрадиционно ориентированный. Наверное, я безбожно отстал от жизни. Мой поезд ушел, а я все еще беспомощно топчусь на перроне, надеясь неизвестно на что.
– Вы неправы, Йоханн Томасович, – говорю я. Мне жалко его. Одиночество – страшная штука. Но, с другой стороны, у него четверо детей и, возможно, с десяток внуков, с которыми он не поддерживает отношений. «Смотри на него, Лизавета, – говорю я себе, – на этого старого волка, для которого в жизни существовала только работа. Смотри, с чем он остался! Или, вернее, с кем. С Аэлитой, которую он называет генетической ошибкой, со Шкодливым Эриком в розовых носках, с Борей Гудковым, заведующим разделом рекламы и юмора, чьих анекдотов он не понимает и постоянно призывает меня в качестве третейского судьи».
– Послушайте, Лизавета, как вам следующий опус, – говорит он мне, надевая очки и поднося к носу исписанный листок. – Интервью с городскими знаменитостями… С каких это пор они стали знаменитостями? В каком обществе мы с вами живем? Почему владелец сети пивных самодовольно рассказывает, как он достиг жизненного успеха, а популярная безголосая певичка свободно рассуждает о своих любовниках? А Бородатый малютка вообще пишет о молодой женщине, зачавшей от пришельцев! Дикость!
Я не могу удержаться от смеха. Бородатый Малютка[ «Бородатый малютка» – рассказ Валентина Катаева о погоне за дешевыми сенсациями.], как называет его Йоханн, не кто иной, как известный журналист и писатель, местная достопримечательность – Добродеев Алексей Генрихович. Свободный художник, печатающийся во всех городских газетах и журналах. Свои материалы он, скорее всего, сочиняет сам, но ссылается при этом на самые достоверные источники.
– Ей через месяц рожать, – говорит Йоханн.
– Кому? – вздрагиваю я.
– Да этой, которая с пришельцами. Добродеев клянется, что лично встречался с ней, и уверяет, что она действительно в интересном положении. Сон разума какой-то, честное слово! – горестно восклицает главред.
– А… может, это правда. Насчет пришельцев…
– Лизавета! И вы туда же? Какие пришельцы? Я допускаю, что дама в интересном положении, но при чем тут летающие тарелки? Хотя вы ведь тоже пишете роман о пришельцах. Вы и Добродеев – родственные души… – В словах его звучит горечь.
– Но ведь есть очевидцы, и ученые говорят… – оправдываюсь я, чувствуя себя глупо.
– А! – машет рукой Йоханн. Достает серебряную фляжку, отвинчивает крышку-наперсток. Аккуратно наливает в нее до краев коньяк, говорит: «Ваше здоровье, Лизавета». Выпивает. И спрашивает серьезно: – Куда мы идем, Лизавета?
– Никто не знает, – отвечаю я. – Этот вопрос человечество задает себе с тех самых пор, как научилось говорить. Один древний философ однажды написал: времена становятся все хуже, дети не слушаются родителей, и все хотят быть писателями.
– Неужели? – поражается Йоханн. – Неужели уже тогда?
– Уже тогда. Так что все в порядке, Йоханн Томасович. Главное – мы движемся.
– Иногда неплохо бы знать куда, – ворчит он. После коньяка главред порозовел и щеками, и лысиной, распустил узел галстука, еще дальше вытянул длинные ноги. Закрыл глаза и, кажется, задремал.
Я сижу тихо, как мышь. Мысленно сочиняю ответ на очередное письмо, в котором плач и стон. Удивительно, думаю иногда, я – вечная девственница и по жизни, и по знаку Зодиака, даю советы брошенным девушкам. Утешаю, жалею, обещаю, что все будет хорошо. Верю ли я в то, что говорю? Что где-то впереди, за поворотом, их ждет прекрасный принц… А что такое «прекрасный принц» в их понимании? А в моем? Их принц, скорее всего, – упакованный бизнесмен на крутой тачке, у которого немерено денег. Мой… Мне все равно, как он упакован. Можно без тачки, хотя неплохо бы, если честно. И деньги… Раньше многие презирали деньги. Воспитавшая меня Светлана Семеновна была бедной по теперешним понятиям. Но назвать ее бедной язык не поворачивается. Она была очень богатой, хотя всю жизнь, кажется, проносила одну и ту же синюю шерстяную юбку. Раз принц – значит богатый. Для девочек, пишущих письма, богатство – это деньги. Для меня же…
Я постоянно думаю о человеке, который звонит мне, – Игоре. Я не представляю, что он богат, ходит по ресторанам, «рассекает», как выражается Аэлита, на шикарной тачке. Я даже не особенно верю, что он художник. Художники, которых я знаю, держатся иначе. Взять хотя бы городскую знаменитость Николая Башкирцева, у которого Аэлита брала интервью…
Йоханн ревел, как раненый бык, читая это интервью.
– Где художник? – орал он на Аэлиту.
– Что значит, где? – орала она в ответ. – Откуда я знаю, где!
– Здесь нет художника! – Он потрясал листками с сочинением звездного дитяти. – Здесь одна пошлость!
– Почему это пошлость? – защищалась Аэлита.
– Кому интересно читать про его автомобили? – вопрошал Йоханн. – И про отдых в Испании? Творчество где, я вас спрашиваю? Он же художник… этот Башкирцев? Или нет?
– Я спрашиваю о том, что интересно нашим читательницам, – отбивалась Аэлита тоже на повышенных тонах. – У нас тут не… энциклопедия!
После криков наступала тишина. Йоханн пил валерьянку и правил интервью. Аэлита, чувствуя себя победительницей, гордо курила в тупичке под огнетушителем. Тупичок в конце коридора назывался «Уголком поэта», там собиралась золотая молодежь, травила всякие байки, в том числе и про Йоханна.
Так мы и жили…
…Мой новый знакомый, наверное, скромный оформитель, думала я. Господин оформитель. Одинокий, не мальчик уже, не особенно уверен в себе. Сидит в своей мастерской, как в келье, делает эскизы или думает, рассеянно глядя в окно. И я представляю, как приношу ему чай. Глубокая ночь, он работает. Ему лучше всего работается ночью. Он даже не замечает меня. Лицо его испачкано краской, в глазах вдохновение. Если вдохновение – значит, все-таки он художник, а не оформитель. Или нет, он пишет для души, а… оформляет ради денег. Жить-то надо. Мне нравится в нем… любопытство. Радостное любопытство. С каким интересом он выспрашивает у меня о письмах читательниц – серьезно, без намека на насмешку…
…Я ставлю чашку на… куда же я ее ставлю? Я оглядываюсь. Длинный деревянный стол, заваленный кусками ватмана, длинная деревенская скамья у стены, парчовое вытертое кресло в углу, прялка, детская люлька, подвешенная на толстой веревке к крючку в потолке, чуткая, вздрагивающая от малейшего сквознячка. Кажется, я видела что-то похожее в кино… Ночь… Э, стоп! Какая ночь? Художники не работают по ночам. Им нужен свет. Им нужны окна и стеклянная крыша. Значит, его мастерская на последнем этаже большого дома, а в крыше – окно-иллюминатор, в которое солнечный свет падает на холст. И дело происходит днем. А на холсте… Что же он у нас пишет? Бескрайние зеленые поля, реку в песчаных берегах, белые облака. Безмятежный летний день, полный звона цикад и шелеста ивовых листьев. И песок на его картине горяч, и нестерпимо сверкание воды – даже больно глазам…
– Лизавета, вы что, спите наяву? Грезите? – доносится до меня издалека голос Йоханна. – И кто же он? – В голосе его мне чудятся ревнивые нотки.
– О чем вы, Йоханн Томасович? – спрашиваю я, возвращаясь в действительность.
– Кто он? – переспрашивает Йоханн. – У вас такое лицо…
– Никто, Йоханн Томасович, – отвечаю я. – Просто задумалась. Ответила сегодня на четырнадцать писем. Наверное, устала.
– Четырнадцать? И всем одно и то же? Что все будет хорошо? – Он смотрит на меня с состраданием. Глаза его кажутся выгоревшими на багровом лице.
– Я верю, что все будет хорошо.
– Вы добрый человек, Лизавета, – говорит он, все еще рассматривая меня. В голосе его сожаление. Сам он не верит, что все будет хорошо.
– Вы тоже хороший человек, Йоханн Томасович.
– Может, вы еще и пишете от руки?
– Пишу.
– Но почему? – изумляется он. – Кто сейчас пишет от руки?
– Потому что мне нравится моя работа. И мне их жалко.
– Я не верю вам, Лизавета. Отвечать на глупые письма – неужели это то, о чем вы мечтали? Разве можно сочинить четырнадцать разных ответов на четырнадцать одинаково глупых писем? Да еще и от руки?
– Они не глупые, Йоханн Томасович, и мечтала я совсем не об этом. Но ведь кому-то нужно…
– А о чем?
– Наверное, я вообще не мечтала. Или о всяких мелочах, вроде нового платья или красивых туфель. А большой мечты у меня не было…
Я соврала. Была у меня мечта. Я часто представляла, как в один прекрасный день откроется дверь и на пороге появится моя мать… Но не рассказывать же об этом Йоханну! Его поколение грезило о полетах в космос и покорении Северного полюса…
– А эта статья о пришельцах и женщине… можно ее почитать? – спрашиваю я, чтобы перейти на другую тему мечты.
– Можно. Зайдите ко мне утром и возьмите.
– Вы дадите ее в номер?
– Ясен пень, дам. Лешка излагает свою историю настолько убедительно, что только такой старый неромантичный тип, как я, может сомневаться. А те, кто пишет вам письма, проглотят ее и потребуют продолжения. И он с удовольствием их удовлетворит. И знаете, что будет дальше? Эта женщина родит двойню… Или даже тройню! Детей индиго со всякими паранормальными свойствами. И фотографии в придачу. Лешка Добродеев способен набодяжить что угодно, не хуже Стивена Кинга. Единственная причина, почему он не пишет роман, – неусидчивость. Он же и десяти минут кряду не усидит на одном месте. Этот гений вечно в полете, и покой ему только снится.
– По-моему, история как раз для нас, – говорю я примирительно. – Читателям хочется сказки и чуда.
Леша Добродеев мне нравится. Толстый, с большим животом, удивительно подвижный, он на бегу сует голову в мою комнату и кричит: «Как жизнь, малышаня! Что пишет прекрасный пол?» Иногда Леша вытаскивает меня в нашу кафешку, шумно, с размахом покупает кофе и десяток пирожных, одно тут же запихивает себе в рот – и при этом не перестает болтать. Или дарит начерканные размашисто, на ходу, бездарные стихи.
– Мне тоже хочется сказки, только, к сожалению, я в них больше не верю, – ворчит Йоханн. – А вы, Лизавета, должны верить в сказки… в силу своего возраста. Вы верите?
Я задумываюсь.
– Не знаю.
– Эх, был бы я помоложе, – вздыхает Йоханн. Отвинчивает крышку серебряной фляги, наливает коньяк, опрокидывает в рот, зажмуривается, издает невесомое «а!»…
* * *
…А в это самое время Иллария сидела у себя в кабинете и репетировала завтрашнюю речь для радио. Она собиралась рассказать слушателям о славном юбилее «Елисейских полей». О том, как журнал сеет разумное, доброе, вечное и как много он значит для города. Зачитать отзывы известных людей – мэра, его жены, примы драматического театра, владелицы дома моделей Регины Чумаровой, бизнесмена Речицкого, грубияна и скандалиста, которого журнал, можно сказать, наставил на путь истинный, и многих других.
Несколько писем с благодарностью от рядовых читательниц Иллария сочинила сама. Получилось очень мило. Она расскажет завтра о творческом пути журнала, сплоченном коллективе, преемственности поколений. О молодых талантах и маститых профессионалах, цвете отечественной журналистики – Алексее Добродееве и Йоханне Аспарагусе. И пригласит всех желающих на славный юбилей, который состоится там-то и там-то… и так далее.
Она взглянула на часы – ого! Половина девятого. Засиделась. Завтра после записи она позвонит папаше звездного дитятки, намекнет, что надо бы помочь с празднованием, и усадит художника за эскизы обложки юбилейного издания и приглашений.
Иллария сидела, прикидывая, что еще нужно сделать, к кому обратиться, какие слова найти… и кто чего стоит. Каждый из тех, кто клюнет на призыв, готов платить за предлагаемый товар. И ее задача – заставить их раскошелиться, кого лестью, кого восхищением, кого намеком на соперников. В искусстве интриги Иллария дала бы фору и Речицкому, и Регине, и многим другим, кто считает себя крутыми ребятами. Причем никто об этом даже не догадывался, глядя на ее ангельское лицо и невинные голубые глаза. Никто, кроме ее адвоката, которого она не стесняется. Возможно, еще Речицкий…







