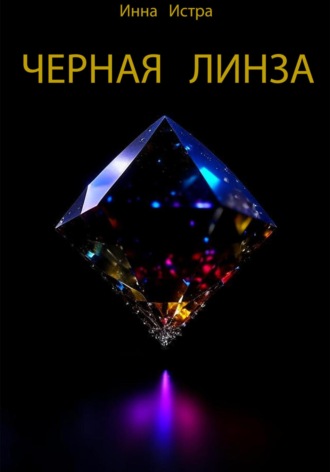
Инна Истра
Черная линза
Сопровождавшие его дети, напротив, казались очень бодрыми и жизнерадостными. Они катили коляску и хохотали. Только вот лица их при этом были искажены злобной гримасой, и мне подумалось, что они не катают и развлекают несчастного инвалида, а везут его к обрыву, с которого столкнут несчастного ребенка вместе с коляской. Этот кошмар назывался «Прогулка».
Я пошла вдоль стены, разглядывая фотографии. Со всех снимков на меня смотрели не дети, а что-то чудовищное, вселившееся в детей и управляющее ими, подчинившее себе и их тело, и их душу. Черно-белое монохромное изображение усиливало кошмар. И среди этих несчастных ребят мой Славик! Решение пришло внезапно. Я не могу оставить его фото в этой галерее уродов. Снимок надо немедленно забрать, разорвать и сжечь. Я бросилась к стенду и попыталась снять фотографию, но она, оформленная в раму со стеклом, оказалась неожиданно тяжелой, и у меня ничего не получилось. Результатом моих усилий стало лишь то, что фото висело теперь криво и от этого смотрелось еще ужаснее.
– Надо пойти к Морковкину и потребовать убрать фото с выставки, – подумала я и направилась к выходу.
Администраторша окинула меня настороженным взглядом и спросила с легкой ехидцей:
– Ну как вам выставка?
– Отвратительно, – честно ответила я. – Никогда не видела такого кошмара.
– Все так говорят, – сказала она подобревшим голосом. – Вон, в книге отзывов посмотрите, что пишут.
В книге под красиво начерченным готическими буквами заголовком «Фотовыставка Олега Гляденина» две страницы были испещрены отзывами типа: «Отвратительно!!!», «Какое уродство», «Исключительная мерзость» и тому подобными фразами. Лишь один пространный отзыв, написанный мелким ровным почерком, хвалил автора за неожиданный взгляд, художественные находки и творческое переосмысление действительности.
– Тут и хороший отзыв есть, – с удивлением сказала я.
– Да это он сам написал, – махнула рукой администраторша. – Я отошла в туалет, возвращаюсь, а он стоит, строчит. Довольный, улыбается во весь рот, думал, не видит его никто.
– Кто он? – не поняла я. – Морковкин?
– Да при чем тут Юрий Константинович? – рассердилась женщина. – Фотограф этот, как его, Гляденин. Он каждый день приходит, на выставку полюбуется, в книгу отзывов заглянет и уходит.
– Вот как? – удивилась я. – А, кстати, Юрий Константинович сейчас здесь?
– Здесь. Где ж ему быть-то, бедолаге, – вздохнула администраторша.
– А что так пессимистично?
Женщина наклонилась ко мне через стол и заговорщицки прошептала:
– Ушел он от своей гангрены, совсем ушел. Квартиру ей оставил, а сам на съемной мыкается. Только ночевать туда ходит, а так целыми днями тут сидит.
Кабинет Морковкина находился на втором этаже здания и представлял собой маленькую комнатку битком набитую всякими интересными вещами. В углу стоял шкаф, сквозь стеклянные двери которого было хорошо видно аккуратно расставленные большие бухгалтерские папки, подписанные каллиграфическим почерком, и несколько сложенных ровными стопочками пластиковых папочек поменьше. Шкаф, точнее, его внутреннее пространство, было единственным оазисом порядка в царящем кабинетном хаосе.
На шкафу лежали рулоны ватмана и старые афиши, стояли гипсовые бюсты, конусы, кубы и пирамиды. Вдоль стен громоздились мольберты, картины, складные стулья, микрофонные стойки. Вдоль самой длинной стены, напротив директорского стола, располагался открытый стеллаж, под завязку заставленный статуэтками, ребячьими поделками, книгами, тетрадями, коробками и прочими штуками. На подоконнике красовались большой макет нашего города, каким он был до нападения монголо-татар, электрический чайник, сахарница, банка растворимого кофе, несколько чашек и коробка с чайными пакетиками. Три стула, стоящих у окна, были завалены какими-то бумагами, папками и детскими рисунками.
Сам Морковкин сидел за столом в большом кресле на колесиках, одной рукой он стучал по клавишам ноутбука, а во второй держал огромную, не меньше чем на пол-литра, кружку с чаем. Рядом лежал пакет с пряниками. Все остальное пространство громоздкого стола скрывалось под бумагами, ручками, кисточками, карандашами, лотками для документов, письменными приборами (их было не менее трех) и прочей канцелярщины.
– Юрий Константинович, я к вам, – начала я сразу от порога. – У меня вопрос по поводу выставки.
Морковкин оторвался от ноутбука.
– Выставки? Очень хорошо, присаживайтесь! – он указал на стулья, увидел, что они завалены чем ни попадя, и немного смутился. – Ох, извините, сейчас я все устрою!
Он вскочил, схватил с ближайшего стула стопку картонных папок и неловко пристроил ее на соседний. Не успел он взяться за спинку, чтобы пододвинуть стул к столу, как стопка медленно начала крениться, грозя упасть на пол.
– Сейчас упадет! – вскрикнула я.
Морковкин бросил стул и стал сражаться с непокорными папками. В конце концов он разделил их на две стопочки поменьше и положил на краю стола, я же подвинула стул и села.
– Так-так-так, – весело сказал Морковкин и уселся в жалобно скрипнувшее кресло. – Значит, выставка. Какой зал вы хотите арендовать? У нас теперь их два, большой и…
–Нет-нет, – я перебила его на полуслове, – я не арендатор, я по поводу фотовыставки, что у вас сейчас проходит.
Юрий Константинович тут же поскучнел, улыбка пропала у него с лица.
– Выставка вам не понравилась? – сухо спросил он.
– Да, но…
– Она многим не нравится, – сказал Морковкин ровным тоном безо всяких эмоций. – Мне она тоже не по душе, но это вовсе не повод ее запрещать или закрывать. Она не нарушает никаких законов, фотографии ничьих чувств не оскорбляют, ничего не разжигают и никого не развращают. Аренда уплачена, договор подписан. У меня нет ни малейших оснований для прекращения экспозиции. Свое отношение к выставке вы можете выразить в книге отзывов. Я ответил на ваши вопросы?
Он демонстративно отвернулся от меня и уставился в экран ноутбука, всем видом показывая, что мне пора встать и уйти.
– Я вам еще никаких вопросов и не задавала, – разозлилась я, оскорбленная таким пренебрежительным отношением. – И выставку я закрывать не прошу, хоть она и отвратительная. Как вообще вам могло прийти в голову выставлять такое уродство, да еще в детской галерее. Вы что, не видели, что выставляете?
– Вы кто? – неожиданно спросил он.
Я растерялась.
– В смысле?
– В смысле, искусствовед? Проверяющий из министерства? Заслуженный деятель искусств? Известный галерист? С чего вы взяли, что имеете право решать, что мне тут выставлять?
– Имею! – взорвалась я. – Имею даже очень большое право! Мой ребенок на фотографии на этой чертовой выставке! Он показан чудовищем, монстром, уродом! Я категорически против присутствия фото моего сына на этой мерзкой выставке! Я требую убрать его отсюда! Это нарушение прав, разглашение персональных данных и… и… я в суд на вас подам!!
И я разрыдалась. Видимо, этот разговор был последней каплей, переполнившей кувшин, последней соломинкой, сломавшей спину верблюду, контрольным выстрелом в лоб моему терпению и самообладанию. Морковкин застыл. Он открывал рот, словно хотел что-то сказать, но не решался, и наконец выдавил из себя:
– Не надо, ну что вы, успокойтесь, пожалуйста. Хотите воды?
Он вскочил и, обойдя стол, подошел к окну и налил мне воды в какую-то пыльную немытую чашку. Я всегда считала жутким штампом предложение воды в случае истерик и волнений, когда видела это в фильмах или читала в книгах. Лично мне сейчас пить совсем не хотелось.
– Не нужна мне ваша вода, – сердито буркнула я и полезла в сумочку за носовым платком.
Морковкин сел в кресло, держа в руках чашку.
– Извините, – сказала я, вытирая слезы, – это нервы. У меня был трудный день.
– Ничего-ничего, бывает, – неожиданно миролюбиво ответил Юрий Константинович и, чуть замявшись, спросил: – А на какой фотографии ваш сын?
– «Шутка», – ответила я, – если вы помните все названия. Он там стоит, смотрит с прищуром.
– Да, я помню это фото, – вздохнул Морковкин.
– Я не прошу закрыть выставку, – сказала я, шмыгая носом, – но хоть эту фотографию можно убрать?
– Я не могу, поймите. У меня договор, обязательства. Все расписано, сколько и чего, и на какое время. Фотографии Гляденин размещал сам, я даже перевесить ничего не имею права. Он каждый день приходит, инспектирует.
– Даже так? А если попросить его убрать фото? Припугнуть судом, если не захочет по-хорошему?
Юрий Константинович криво усмехнулся.
– Судов он не боится. Это очень образованный и подкованный в плане юриспруденции человек. А по-хорошему он не уберет.
– Почему?
Морковкин ничего не ответил, отвернулся от меня и стал смотреть в окно, потом, когда я уже открыла рот, чтобы повторить вопрос, нехотя сказал:
– Я его уже просил.
– Как? Вы?
– Да.
Он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза.
– На этой чертовой выставке есть фото моих племянников.
– Какое? – прошептала я.
– «Прогулка».
– И он отказал?
– Да. Хотя я сказал ему, что одного из мальчиков уже нет в живых.
Какое-то время мы сидели молча. Потом я вспомнила свои ощущения от той фотографии и осторожно спросила:
– Того, что в коляске?
Морковкин кивнул, быстро встал и отошел к окну. Мне показалось, что он вытирает глаза, и я отвернулась. Он немного постоял, глядя в окно, потом откашлялся и сказал.
– У меня два племянника, – тут он запнулся и добавил, – было. Никита и Егор. Егор младший, у него ДЦП и умственная отсталость. Никита никогда брата не стеснялся, а летом в деревне часто брал на прогулки. Он с друзьями играли на высоком берегу реки, а Егор сидел под деревом и смотрел на них. Однажды коляска вдруг покатилась и упала с обрыва. Егор погиб. Несчастный случай.
Юрий Константинович отошел от окна и вернулся на свое место. Мне не понравилось, как он произнес последние слова.
– Это точно был несчастный случай? – спросила я.
Морковкин посмотрел на меня тяжелым взглядом и мрачно сказал:
– Не знаю.
Снова воцарилось неловкое молчание.
– Мне надо идти, – наконец сказала я, вставая.
Морковкин кивнул.
– До свидания.
Я пошла к выходу, но у самой двери повернулась.
– Я все равно приду завтра и поговорю с Глядениным. Во сколько он обычно приходит?
Юрий Константинович пожал плечами.
– Дело ваше. Приходите к двум часам.
Славика дома не было. Его телефон не отвечал. Я приготовила ужин и еще раз позвонила сыну. Абонент вне зоны действия сети. За окном начало темнеть. Я волновалась все больше и уже собиралась позвонить Сергеевым, как телефон ожил у меня в руке. От неожиданности я подскочила на месте. Звонила Наташа, мать Вани.
– Здравствуй. Твой дома?







