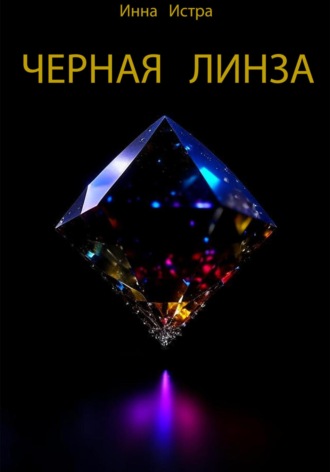
Инна Истра
Черная линза
По ее голосу было понятно, что она злая и взвинченная.
– Нет, собиралась как раз тебе звонить.
– Ванька убежал. Мы уже час с мужем ищем его по всем дворам. Он наверняка с твоим. Где они могут быть?
– Не знаю. Вы где? Я сейчас к вам приду.
Наташа рассказала мне, что после тяжелой беседы в полиции они вышли на улицу и направлялись к машине, когда Ваня начал разговаривать по телефону. Наташа поняла, что он говорит со Славиком, и наорала на сына, запрещая ему общение с приятелем. Ваня отключил телефон и сел в машину тихий и подавленный. Когда уже шли к дому со стоянки, он остановился завязать шнурок на кроссовке. Родители прошли немного вперед, обернулись – а ребенка и след простыл. Отец побежал за ним, но Ваня скрылся в старых гаражах. Наташа с мужем обшарили все гаражи, но сына не нашли.
– Где они могут быть? – чуть не плакала Наташа. – Это все Славка виноват! Он его подбивает, а мой, дурак, его во всем слушается.
– А у Вани, что, головы своей нет? – огрызнулась я.
– Нет! Нет у него своей головы, – взвилась Наташа. – Он твоего во всем слушается, подчиняется, все делает как твой скажет. Твой подбивает и хоть бы хны, а нам теперь с полицией разбирайся!
– Знаешь что, – начала было я.
– Так! Замолчали обе! – прикрикнул Михаил, Наташин муж. – Потом разберетесь, сейчас искать их давайте.
Мы ходили по дворам, расспрашивали старушек у подъездов, мамочек на детских площадках. Никто мальчиков не видел. Совсем стемнело. Меня колотила дрожь, Наталья всхлипывала. Наконец нам повезло. В стайке подростков, тусующихся на лавочках в сквере, одна девочка сказала, что видела двух мальчиков, что шли к баракам у железной дороги.
Три двухэтажных барака постройки сороковых годов были головной болью городской администрации. Их признали ветхими и долгое время пытались расселить жильцов, которые не хотели уезжать из жилья хоть и старого, хоть и у железки, но зато почти в центре, в новостройки на самой дальней окраине. И когда, наконец, все все-таки разъехались, то грянул очередной кризис, и строительство высоток на месте бараков отложилось на неопределенное время. А дома разрушались, в них жили бомжи, собирались подростки, алкаши и наркоманы.
Мальчиков мы нашли в первом же бараке. Луч света от фонарика мобильного выхватил Славика, лежащего на полу без сознания, и Ваню, стоящего рядом на четвереньках и сотрясаемого рвотными позывами.
В больнице нам сказали, что подростки, вероятнее всего, курили спайс, не рассчитали и получили передозировку. Их отправили в реанимацию, а мы остались сидеть в коридоре. Часа через полтора к нам вышел врач и посоветовал ехать домой, поскольку сидеть под дверями никакого смысла нет. Ваня уже почти пришел в себя, но все равно проведет ночь в реанимации. У Славика дела были хуже, он так и оставался без сознания. Мы упросили врача пропустить нас к детям. Поколебавшись, он согласился.
Ваня, измученный и обессиленный, смог лишь криво улыбнуться. Мой сын лежал под капельницей неподвижно, прикрытый больничной простыней. Славик был бледным, почти белым, под глазами – темные круги, из носа торчали какие-то трубки. Но выражение его лица было таким спокойным и умиротворенным, что я не выдержала и расплакалась. Врач тут же вывел меня из реанимации.
– Не надо слез, – сказал он. – Состояние стабильное, сердце молодое, здоровое. Прокапаем, утром придет в себя. Поезжайте домой.
Полночи я проплакала, потом заснула вся измученная и опустошенная. Мне приснился Славик, стоящий на красивом цветущем лугу и улыбающийся мне мягкой доброй улыбкой. Я шла к нему, светило солнце, летали бабочки. Недалеко от Славика, чуть сбоку, была небольшая тенистая рощица, сначала она показалась мне уютной, но вдруг я увидела среди деревьев кресты и оградки и поняла, что это кладбище. Среди крестов появилась небольшая черная тень, она колыхалась росла и превратилась в высокого худого человека с фотоаппаратом. Он направил объектив на сына и нажал кнопку. Воздух перед объективом заколыхался, как в жару над раскаленным асфальтом, и медленно двинулся в сторону Славика. Там, где проходила эта жуткая волна, мир обесцвечивался, становился тускло-серым. Я закричала и побежала к сыну, но воздух стал густым, и я двигалась словно в толще воды. Бесцветная волна поглотила Славика, он превратился в серую гипсовую статую, и по нему медленно поползли трещины.
Я в ужасе проснулась, сердце колотилось как ненормальное, дыхание перехватывало. На часах было пять утра. Больше я не спала.
В больнице мне сказали, что в состоянии Славика никаких улучшений нет, оно тяжелое, но стабильное, в себя он не пришел, все также без сознания. Наблюдается угнетение дыхания и его подключили к ИВЛ. Мне разрешили посмотреть на него через стеклянные двери палаты. Когда я увидела трубку, торчащую у него из горла, то со мной случилась истерика. Меня с трудом успокоили, даже предложили сделать укол, но я отказалась. Врач попросил меня не сидеть под дверями, обещал, что позвонит в случае изменений, и я отправилась восвояси. Дома я не знала, за что схватиться, бродила по квартире, как зверь в клетке. В какой-то момент я вспомнила свой сон, и меня прошиб пот. Фотограф! Выставка с жуткими снимками! А вдруг это действительно связано? А погибший мальчик? Я посмотрела на часы. Надо торопиться.
Я влетела в галерею в начале третьего. В выставочном зале горел свет, значит, там кто-то был.
– Фотограф здесь? – спросила я у администраторши, та кивнула с видом заговорщицы и потянулась к телефону.
Я вошла в зал и нашла Гляденина в дальнем углу, где он рассматривал фотографию под названием «Мавка», изображающей девочку лет пятнадцати с распущенными волосами и тяжелым гипнотическим взглядом. В зале он был один, ошибиться я не могла.
– Здравствуйте, вы Олег Гляденин? – спросила я.
Фотограф медленно повернулся ко мне. На вид ему было лет сорок. Он был худой и высокий, на плече висел кофр для фототехники, старый, потертый, из толстой черной кожи.
– Добрый день. Да, это я. Мы знакомы?
Он рассматривал меня очень внимательно, изучающе и оценивающе. Глаза, увеличенные толстыми стеклами массивных очков, производили жутковатое впечатление. К тому же он очень напоминал фигуру из моего ночного кошмара.
– Нет, но у меня к вам просьба.
– Какая?
В его голосе послышались ледяные нотки. Я внутренне съежилась, но вспомнила сына в реанимации.
– Видите ли, на вашей выставке есть фото моего сына, – решительно сказала я.
–Да вы что? – его радость была неподдельна. – И какая же из них?
– «Шутка».
Он тут же бросился к фотографии.
– Эта?
– Да.
– Прекрасно! И как она вам? Не нравится, да? Вызывает неприятные чувства? Говорите же!
Гляденин чуть ли руки не потирал от восторга. Я ожидала всего чего угодно, но не такой реакции.
– Да, она мне не нравится, – начала я, растеряв половину своей уверенности.
– А, вот вы где! – вдруг раздался голос Морковкина. – Беседуете?
– Да! – улыбаясь ответил фотограф. – Представляете, ее сын на моем фото! Такая удача!
– А пойдемте-ка в мой кабинет, – предложил Морковкин. – Выпьем кофе, поговорим спокойно, а то придут люди на выставку, мы им помешаем. Пойдемте, пойдемте.
Он чуть ли не выталкивал нас из зала. Я, совершенно опешившая, подчинилась, а Гляденин так радовался, что был согласен на что угодно.
Войдя в кабинет, я сразу поняла, что Морковкин готовился к этой встрече. Комната была приведена в относительный порядок. Во всяком случае, стулья были освобождены от бумаг, стол разобран, на нем стояли вымытые чашки и блюдца с пряниками и конфетами.
– Присаживайтесь, присаживайтесь, – хлопотал Юрий Константинович, нервно поправляя на носу круглые очки. – Что будете? Чай? Кофе?
– Чай, – сказал Гляденин, а потом вдруг махнул рукой. – Нет, кофе! Давайте кофе!
– Мне тоже кофе, – ответила я на вопрошающий взгляд Морковкина.
Мы с фотографом сели у стола, а Юрий Константинович возился с чайником и звенел чашками у подоконника.
– Ну и что вы скажете о фото? – спросил Гляденин.
– Ничего хорошего, – ответила я. – Хотела попросить вас убрать фото с выставки.
– А что так? – деланно удивился фотограф. – Хорошее же фото получилось.
– Нет. Это плохое фото. Мой сын не такой.
Гляденин сидел весь подобравшийся и напряженный, как зверь в засаде перед прыжком, но при этом весь светился от радости.
– А какой ваш сын? Он не изменился в последнее время? Где он сейчас?
– Изменился, – зло ответила я. – А сейчас он в реанимации.
Морковкин в это время ставил на стол две чашки. Он вздрогнул и разлил немного кофе, тут же засуетился и начал вытирать стол.
– Вот как, – протянул Гляденин. – А что с ним?
– Отравление.
– Спайс? Клей? Алкоголь? Наркотики?
– Да что вы себе позволяете! – взорвалась я.
– Извините-извините, – фотограф примиряюще поднял руки перед собой. – Я не хотел вас обидеть, просто это вполне обычное дело среди подростков.
– Мой Славик не такой, – возразила я.
– Был.
Слово упало словно камень. Все застыли. Первым опомнился Морковкин.
– Сахар? Вам сколько? – обратился он ко мне.
– Две, – тихо сказала я.
– Мне не надо, – Гляденин взял чашку и понюхал кофе. – Я вообще кофе пью очень и очень редко. Он на меня действует слишком возбуждающе. И алкоголь не употребляю, я от него становлюсь слишком болтлив. Но не каждый день приходится встречаться с героями своих фотографий, ну или с их родными.
Он улыбнулся и отпил глоток.
– М-м-м… Чертовски хорошо!
Кофе был, честно говоря, посредственный, обычный растворимый из банки, но Гляденин смаковал его как наивкуснейший напиток. Морковкин вдруг полез в ящик стола и вытащил маленькую плоскую бутылочку коньяка. Открутив крышечку, поднес бутылочку к чашке фотографа. Тот сначала отодвинул чашку, а потом, помявшись, сказал:
– Ах, все равно, сгорел сарай, гори и хата.
В полном молчании мы сделали несколько глотков.
– Так что же с фото, – нарушила я тишину. – Уберете?
Гляденин очень неприятно улыбнулся.
– Ответьте мне, ведь ваш сын изменился в последнее время? Да? Ведь изменился?
Когда он говорил, то немного тянул шипящие звуки и слова звучали словно с небольшим шипением: «изсменилссся». В этом было что-то змеиное. Я кивнула. Врать не было смысла, он что-то знал. Гляденин снова улыбнулся.
– Да, они все меняются после того, как я их сниму, – он отхлебнул маленький глоток. – Ах, как же вкусно! Жаль, что я не могу себе это часто позволить!
– Уберете фото?
Во мне закипала ярость. Мой сын лежит под капельницей, из горла у него торчит трубка, а эта тварь что-то знает и глумится надо мной.
– В этом нет никакого смысла, – спокойно ответил Гляденин. – Все свершилось в момент спуска затвора фотоаппарата. Она пропустила их через себя, забрала что ей было нужно, а фото – это всего лишь отпечаток на бумаге. Даже если вы его порвете или сожжете, ничего уже не изменится.







