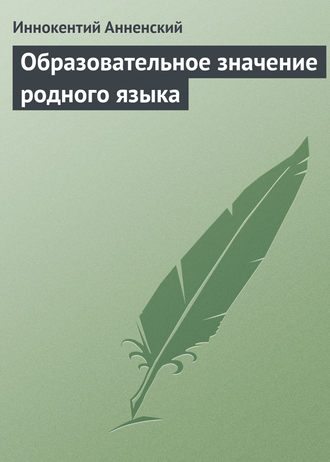
Иннокентий Анненский
Образовательное значение родного языка
Посмотрим теперь, нет ли другой какой-нибудь возможности заставить учеников говорить. Может быть, полезно просто чтение с пересказом? Всякий учитель русского языка, вероятно, испытывал неприятную минуту, когда, прочитав в классе какую-нибудь художественную вещь, он должен был заставлять ученика ее пересказывать. Вы прочитали, напр., «Кавказского пленника» гр. Толстого или «Бежин Луг» Тургенева. Ваши слушатели, да и вы сами, еще под живым впечатлением, и вдруг Иванов или Петров суконными языками, иногда (если дети чуткие) сами стесняясь, чувствуя, что не то́, не та́к, начинают вам повторять поэзию на свой лад: точно кто стал грубым карандашом, в неуверенной руке обводить по тонко награвированному рисунку – вместо дерева, получилась сахарная голова, вместо куста – картофелина, вместо пастуха – крест; класс частью впадает в апатию, иные досадуют, и никто не понимает, к чему это делается. Но попробуйте, как умно советуют иные педагоги, отложить рассказ и беседу на другой раз – пусть улягутся впечатления, пусть дети прочтут рассказ вторично, в третий раз, подумают, не найдется ли вопроса, недоумения, соображения какого-нибудь. Пишущему эти строки приходилось нередко делать подобные опыты, но при этом получалось нечто, мало подходящее. Прилежные и старательные дети (особенно девочки) относились к поэтическому рассказу, как к истории или к географии. Мне всегда совестно было слушать, как усердный ребенок старался передать подробности о каких-нибудь выдуманных мальчиках, точно это были ветхозаветные судьи или цари. Являлось что-то тщательно выученное. Вопросы, подготовленные детьми, бывали, по большей части, случайного характера, и их трудно было развить в беседе – они касались то технической подробности, то неизвестного слова. Да вопросы более тонкие, нравственные и не являются, а главное, не высказываются без какого-нибудь внутреннего побуждения. Иногда в обращениях учащихся проявлялась какая-то надуманность или верхоглядство, нахватанность: какой характер у Жилина? Что дурного было в Костылине? Все это не живые вопросы, возникшие в уме ребенка, а случайно попавшие к нему схемы, и рассуждать по поводу них в младшем классе труд совсем неблагодарный. Приходилось обыкновенно возбуждать беседу самому, и иногда удавалось ее действительно оживить. Жаль только, что когда дети очень оживятся (особенно, если это не в нравах класса), то начинают обыкновенно говорить все вместе, причем шалуны не преминут воспользоваться по-своему оживлением своих внимательных товарищей. Но это частности – порядок восстановлен, вы благополучно доводите вашу беседу до конца и делаете даже совместно с учениками кое-какой вывод из сказанного. Но в результате этой беседы вы могли, в сущности, очень мало вынести о каждом из учеников – молчаливые прятались в свои раковины и больше слушали, благо вы давали словоохотливым отвечать на все вопросы; затем связной речи в этих отрывочных замечаниях, вопросах, восклицаниях было очень мало, немногим больше, чем при катехизации.
Рассказ поэтического отрывка, подготовленный или без подготовки, как я уже говорил, труден и часто ведет только к искажениям. Каковы, напр., выходят поэтические описания, характеристики, лирика? что делается с идеальною точкой зрения на предмет? В передаче ученика все это стирается, а между тем, эта передача налегает в сознании и памяти на непосредственное, поэтическое впечатление от чтения произведения. Как же быть? А ведь рассказ – это самая естественная форма изложения мыслей у ребенка, на рассказе именно ученик должен упражнять свое языковое чутье. Что же должен он рассказывать? Мне кажется, то, что́ было, или что́ он сам знает, чувствовал, наблюдал. Пусть он мне говорить о полевых работах, не по моделям в музее и не по картинам «Времена года», где в одном уголке пашут, в другом сеют, в третьем жнут, в четвертом молотят; пусть он мне рассказывает о них, если действительно видел их на солнце. А я буду его спрашивать (не катехизировать, избави Боже!) с целью лучше представить себе, что он говорит. Если он мне, вместо того, чтобы рассказывать «по прочитанному в книжке», как Иван Иванович едет с детьми на лошадях в деревню, и как они по дороге видят и столицу, и губернский, и уездный, и, кажется, заштатный город, и село, и деревню, и перевоз, и шоссе, и мельницу, и все, чего рассказывающий (ученик) не видал и не знает, если, вместо всего этого «педагогического материала», он мне передаст словесно – я подмогу ему несколько вопросами: как он начал учиться, как проводит воскресенье, где и как жил на даче, как учился кататься на коньках, что ему понравилось и что не понравилось в Зоологическом саду? – его рассказ будет очень полезен для нас обоих. Мне скажут, что я предлагаю болтовню. Избави Боже! ученик будет знать, и класс будет знать, зачем мы это делаем. Дети читали «Детство и отрочество» Толстого, кое-что из «Детских лет» Аксакова, из «Обломова» – они знают, что можно находить удовольствие в изображении самых будничных и мелких вещей, а я, учитель, объясню им, что на этих рассказах (иногда они будут готовиться к ним) развивается их дар речи, что они сделаются таким образом, как рассказчики, интереснее для товарищей и окружающих, что они могут научиться излагать свои впечатления почти так же хорошо, как писатели, знакомые им с первых лет чтения. Передавая старое, дети будут изощрять память и воображение, а если надо будет говорить о новых впечатлениях, примутся лучше наблюдать окружающее. Речь их не будет прикована к книге. Они будут поневоле в способ изображения руководствоваться исключительно своим Sprachgefühl, а я, учитель, буду исправлять их собственную живую речь, а не скверную копию с поэтической ткани Пушкина или Майкова. Тысячи впечатлений, которые прежде уплывали от них, закрепятся. Если по поводу какого-нибудь рассказа возникнет нравственный вопрос, он будет иметь естественную точку прикрепления. Рассказ ученика может быть дополняем и замечаниями со стороны других. Только вопрос сразу должен быть поставлен на серьезную почву: ученикам должно, мне кажется, постоянно напоминать о цели их занятий и объяснять эту цель, не с намерением, конечно, оправдывать что-нибудь перед ними, а просто, чтобы они понимали, к чему их ведут и чего требуют. Учитель, для возбуждения в учениках желания рассказывать и для образца, время от времени тоже должен им словесно передать что-нибудь от себя. Напр., рассказывает мальчик, как его начали учить, а учитель расскажет о Фребеле или о детском саде, или о том, как учились в Ланкастерской школе, или нарисует картинку китайской, индийской, греческой школы. Рассказывает ученик, как он побывал в домике Петра Великого и что там видел, а учитель расскажет об играх Петра и подчеркнет в рассказе уменье подчиняться, которое проявлял Петр еще в детстве, его энергию, его любознательность. Рассказ учителя должен быть, как модель, заботливо отделан. Если учитель не умеет рассказывать (нормально ли это?), пусть хоть прочитает детям что-нибудь в таком роде. Я не буду говорить об общем воспитательном значении детских рассказов на живые темы. Скажу только, что для детского языка, по моему, они незаменимы: они связывают речь действительно с миром понятий и представлений, с душой человека, а не с другою речью, чужою, не с формой. Кроме того, здесь есть место творчеству (наша свободная речь и есть собственно вечное творчество), ему современная школа вообще уделяет слишком мало места. (О недостатке творчества в школе см. интересную статью Видманна: Dressieren und Dozieren die Feinde des Unterrichts в журн. «Gymnasium», изд. в Падерборне, 1889 г. No№ 5 и 6).







