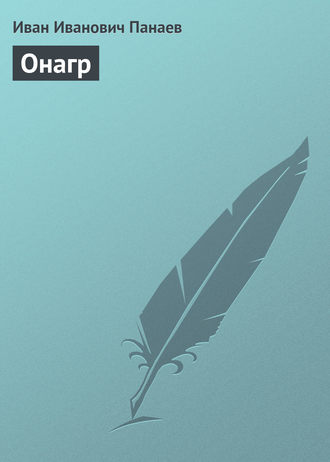
Иван Иванович Панаев
Онагр
Глава V
Обаятельная сила денег. – Отрывок из петербургской философии. – Маскарад в Большом театре
Бог знает почему многие из нас пренебрегают словом человек. Это слово прекрасное и глубоко знаменательное, а оно, не имея никакого смысла отдельно, только с тремя прибавлениями, – получает в нашем обществе важный смысл: человек с именем, человек с чином, человеке деньгами.
Имя, чин и деньги – великие три слова! Перед ними открыты все двери, им везде поклон с улыбкой, почет и привет, им – крепкое рукопожатие, для них незваная пламенная любовь и непрошеная искренняя дружба!
Укажите же, читатель мой, место среди нас просто человеку?
– Человек! – закричал Онагр, лежа в неописанной неге на вычурном и резном диване.
Гришка – тот самый Гришка, который ходил в засаленном и оборванном сюртуке, теперь завитой, как баран, во фраке тонкого сукна и с аксельбантом, очень беспокоившим его, – явился пред Петром Александрычем…
– Что, еще не приносили вазы от Мадерни?
– Нет, сударь.
– Хорошо, пошел!
«Гостиная у меня, кажется, недурна, – подумал Петр Александрыч, – диван от Гамбса, бронзовые часы из английского магазина, обои от Шефера… Ваза будет здесь очень кстати… Все любуются моей гостиной, – это очень приятно! А какой фрак сшил мне Руч, – у! какой, фрак!..»
Онагр поднялся с дивана. На нем был красный шелковый халат, малиновая бархатная шапочка с золотою огромною кистью, болтавшеюся по глазам, и азиатские туфли, беспрестанно сваливавшиеся с ног.
Онагр подошел к окну… Снег падал на улице хлопьями, вода с шумом стекала на тротуар из железных желобов. Барыня, приподняв салоп, отважно переходила через улицу, утопая в грязи и в снеге; коллежский регистратор в светло-серой шинели с кошачьим воротником тащился, отряхиваясь и протирая глаза, залепленные снегом; горничная с платком на голове и в кацавейке бежала в мелочную лавку; мастеровой, завернувшись в свою синюю сибирку, исполински шагал чрез грязь и лужи…
«Бедные! и не боятся простуды! им ничего – грубый народ! Я так выеду сегодня в карете, иначе невозможно! А сильно тает; впрочем, скоро весна: уж февраль на исходе».
Онагр опять лег на диван.
«Какие Гамбс славные пружины делает. Мастер на это, нечего сказать. На других мебелях мне что-то и сидеть неловко… За кем бы приволокнуться? Знаю я одну премиленькую девочку… впрочем, и Катерину Ивановну не оставлю, ни за что не оставлю… Теперь она не уйдет от меня».
Такие мечты толпились в голове Онагра, и, убаюканный ими, он не слыхал, как очутился перед ним Дмитрий Васильич Бобынин.
Онагр немножко удивился этому неожиданному посещению. Он видел у себя в первый раз Дмитрия Васильича.
– Я давно к вам сбирался, милый мой Петр Александрыч, – сказал Дмитрий Васильич, пожав руку его с особенным чувством, – да мои дела, хлопоты… Служба отнимает у меня все время, так что я не могу посвятить его немногим искренним приятелям…
– Как в своем здоровье Катерина Ивановна?
– Покорно вас благодарю. Она здорова: маленькая у нас что-то было прихворнула, теперь, однако, поправилась… Вы как поживаете?.. Кончены все ваши хлопоты? вы уж введены во владение?
– Введен…
– Ну, слава богу… Maman-то вашей бедной сколько было дела! Прекрасное именьице вам досталось, прекрасное… Виктор Яковлич был хозяин, – ведь я его коротко знал. Село Долговка лучшее село в губернии: в нем восемьсот душ, да земли – позвольте – земли… да… верно, около девяти тысяч десятин. Кажется, так?
– Право, не знаю.
– Вам надо иметь хорошего управляющего… у меня есть в виду человек… мы об этом когда-нибудь поговорим с вами посерьезнее… отличный, надежный человек. Послушайте-ка, Петр Александрыч…
Бобынин взял Онагра за руку и начал прохаживаться с ним по комнате.
– Я душевно люблю и вас и вашу маменьку и от всего сердца желаю вам добра… Позвольте мне дать вам небольшой совет.
– Что такое-с?
– Видите ли: теперь вы человек с большим состоянием, все невольно обращают на вас внимание… третьего дня спрашивал о вас один директор – мой знакомый… вам бы хлопотать о хорошеньком местечке по службе; теперь для вас это легко, – а то вы служите без жалованья, нештатное место…
– Помилуйте, – перебил Онагр, наморщась, – ездить всякий день в департамент – это смертная тоска.
– Кто ж вам об этом говорит? Сохрани бог! с какой вам стати мучить себя!.. Вы теперь должны служить собственно только для блеска, где-нибудь по особым поручениям; честолюбие будет удовлетворено – и прекрасно.
– Это недурно, Дмитрий Васильич! – сказал Онагр. – Как же бы это устроить?
– Ничего нет легче, и это нам не бог знает чего будет стоить; я переговорю с директором, мы это дельце и обработаем. Тогда я вас уведомлю о подробностях. Вам теперь можно устроить превосходно свою карьеру: о бедном хлопотать не станут; бедный сам пробивается.
– Разумеется, для бедных есть чернорабочие должности… Покорно вас благодарю, Дмитрий Васильич; мне без вас это не пришло бы в голову.
– Я всегда рад вам служить, и маменька ваша будет этим довольна.
– Уж конечно!
Дмитрий Васильич посмотрел на часы.
– Ай-ай! Как я у вас засиделся: четверть второго. От вас мне еще нужно заехать на аукцион.
Дмитрий Васильич взялся за шляпу.
– Да… как вы думаете устроить ваш капитал?
– Я как-нибудь… я и сам не знаю.
– В ломбард отдавать не стоит… что четыре процента?.. Позвольте… ах! я и эту статью могу вам выгодно обработать. Без меня только не предпринимайте ничего решительного, а то обманут. Прощайте, мой милый Петр Александрыч, не забывайте нас – до свидания. Да без церемонии являйтесь к нам, мы всегда вам рады, как родному. Не беспокойтесь: в передней у вас немного холодно, простудиться можно.
«Чудесный человек этот Бобынин! – подумал Онагр, – отчего же он мне прежде не совсем нравился?»
Лишь только вышел Дмитрий Васильич, как дверь из передней с шумом отворилась, и в залу Онагра вбежали офицер с золотыми эполетами и офицер с серебряными эполетами.
– А, друзья! откуда?
– Я объявлю тебе новость, братец, – сказал офицер с золотыми эполетами, бросаясь на стул, – я с Машей совсем покончил, решительно поссорились; надоела, все ревнует. Знаешь фигурантку Лизу? такая быстроглазенькая, с левой стороны во второй паре третья с края; я начал волочиться за нею – вчера получил от нее записочку. Хочешь, покажу?
Офицер с серебряными эполетами ходил по комнате и рассматривал новые мебели и вещи в гостиной Онагра.
– Славные часы! что ты, мон-шер, заплатил за часы?
– Не знаю, недорого; кажется, рублей тысячу.
– Гм! И диван прелестный, а что за диван заплатил?
– Четыреста.
– Гм! Надо мне купить себе эдакий. А эти кресла с железной спинкой?
– Сто с чем-то, с какой-то безделицей.
– Гм! цвет сукна, мон-шер, мне не нравится: напрасно ты не взял вер-де-пом, у всех вер-де-пом.
– Посмотри, братец, – сказал офицер с золотыми эполетами Онагру, вынимая из кармана сафьянную коробочку и открывая ее, – купил для Лизы гранатовую браслетку. Недурна? как ты находишь?.. Что твоя Катишь поделывает? Вы с ней все по-прежнему?
– По-прежнему? Чего! с каждым днем все больше и больше привязывается ко мне. Не знаю, чем это кончится!
– А Дмитрий Васильич?
– Он у меня сейчас был.
– Мы его встретили. Мастерски ты, Петя, ведешь себя; и с мужем приятель и с женой… Богатые дядюшки у тебя умирают…
– И мне, может быть, скоро достанется пятьсот душ, – заметил офицер с серебряными эполетами.
– Полно, братец, сочинять: я шестой год слышу от тебя это всякий день.
– Что ж шестой год! я не сочиняю…
– Не хотите ли завтракать, господа? – сказал Онагр.
– Пожалуй, я от завтрака никогда не отказываюсь. Офицер с золотыми эполетами взял Онагра за талию, приподнял его и произнес с особенным чувством, которое передать невозможно:
– Ах, душечка, если б ты увидел Лизу!
Завтрак был на славу; однако все трое более пили, чем кушали.
– В воскресенье, messieurs, маскарад в Большом театре. Страсть моя маскарады: я все хожу в маскарадах с французскими актрисами, – сказал офицер с серебряными эполетами.
– В самом деле, маскарад? Я и забыл! Лиза непременно там, и я буду. А ты, Петя, поедешь?
– Как же не ехать?..
Маскарад в Большом театре! Как весело, под гром музыки, прохаживаются оба пола: женский пол в масках и в черных домино, а мужской пол – без масок: женский пол сам по себе, а мужской – сам по себе. Тишина и простор царят в огромной зале, только слышится однообразный шум шагов, шелест шелковых домино да бряцанье шпор. Живописно колышутся в зале белые и черные султаны: ярко горят при усиленном освещении золотые и серебряные эполеты и аксельбанты. Львы в темных фраках и в узких желтых перчатках; Онагры в светлых фраках с блестящими пуговицами; какие-то два господина в сюртуках и в масках; чиновник с разряженной, как на бал, супругой под ручку, и оба без масок; испанец в плисовой мантии, взятой напрокат за два с – полтиной; пастушка, претолстая, в корсете, который у нее сзади не сходится, и с пречудовищными ногами в башмаках с бантиками… Этой картиной любуются сверху дамы и барыни, образующие своими отдельными группами цветущие оазисы середи пустыни лож… Маскарад еще не расходился. Слышите ли? начинается шушуканье, глухой говор… несколько женщин из этой толпы уже об руку с мужчинами; несколько пар пронеслось мимо вас; раздался пронзительный женский писк; проскользнула ножка, пленительно выставившаяся из-под распахнувшегося домино, промелькнула чудесная талия… вот и знакомец наш, господин высокого роста и крепкого сложения. Он ведет даму в коричневом домино с голубыми бантиками, потирает свой подбородок о крепкий волосяной галстук и подергивает усами, а сзади этой пары – Онагр. Он идет и думает:
«Неужели это Катерина Ивановна? Кажется, что она?.. Охота же ей ходить с этим усачом. Разве не нашлись бы для нее кавалеры?..»
– Бо-маск, я вас узнал, – сказал Онагр, подойдя к коричневому домино.
Господин высокого роста шевельнул усом, а его дама обернулась к Онагру и запищала по-французски:
– Неправда, вы ошибаетесь…
«Шутки! – подумал Онагр, – это, точно, она».
– Вы не умеете скрыть своего голоса, – продолжал он, – но я и без того узнаю вас, как бы вы ни замаскировались.
В эту минуту мимо Онагра прошел лев. Лев говорил своей маске: ты. Это ты немного смутило Онагра.
Коричневое домино оставило своего усача и взяло за руку Онагра.
– За кого вы меня принимаете?
– Твое имя начинается с буквы…
На местоимение твое он сделал сильное ударение.
– С какой?
– С буквы К… Коричневое домино засмеялось.
– Потому что у меня коричневое домино?.. Угадали?
– Полноте притворяться… Вас… тебя можно узнать по твоему кавалеру…
Она вздрогнула.
– Отчего по моему кавалеру?.. Я его не знаю, я первый раз встретила его здесь.
Онагр начал колебаться.
«А может быть, это и не Катерина Ивановна? Кто ее знает?..»
– Тебе весело здесь, бо-маск?
– Весело…
Они прошли несколько шагов молча.
«Неловко как-то говорить с этими масками! Ничего в голову нейдет».
Навстречу им попалось черное домино с черным шишаком на голове… Это домино подошло к той, с которою прохаживался Онагр, и сказало:
– Катишь, я тебя давно ищу. Я потеряла Дмитрия Васильича…
– А, Катерина Ивановна! Теперь вам нечего скрываться. Видите ли, я узнал вас…
– Не стыдно ли тебе, ма-шер, изменить мне? – с упреком произнесла Катерина Ивановна, обращаясь к своей приятельнице с шишаком и качая головой. – Вот Дмитрий Васильич, поди к нему, а я немного пройду с Петром Александрычем и буду вас ждать с левой стороны у первого бенуара.
«Она хочет пройтись со мною: это недаром!» – подумал Онагр.
– Мне сердце сказало, что это вы, – начал он, прижимая как бы нечаянно локоть ее к своему боку.
– Сердце? Вы мне сказали, что узнали меня по моему кавалеру.
– Он мог идти и не с вами, а сердце мне…
Офицер с серебряными эполетами подбежал к Онагру и шепнул ему на ухо:
– С кем это ты идешь, мон-шер? Кажется, хорошенькая! О чем вы говорите? – потом он закричал: – Я сейчас ходил все с какой-то аристократкой. Она говорила мне разные нежности: у них пресвободное обращение, мон-шер.
– Не мешай мне, пожалуйста… Мне надо поговорить. с моей дамой.
Офицер улыбнулся, присвистнул, осмотрел с ног до головы коричневое домино и исчез.
Онагр продолжал:
– Сердце никогда не обманывает… оно… оно…
– Приезжайте послезавтра обедать к нам, – сказала Катерина Ивановна рассеяннее, чем обыкновенно; и, говоря это, она как будто искала кого-то в толпе: – приедете?
– Непременно.
– Я давно хотела говорить с вами, я хотела… Вы знаете этого адъютанта, вот, что стоит один, с белым султаном?
– Знаю, а что?
– Так… об нем я много слышала от одной моей приятельницы… Она… Ах… я и позабыла… Завтра большой бал у Горбачевой. Вы будете?
– Буду.
– Я с вами танцую четвертую и шестую кадрили… Слышите? Мне надо поговорить с вами о многом.
– Я всегда к вашим услугам. Назначьте час, минуту, секунду…
Онагр был счастлив; он весь превратился в улыбку самодовольствия, он думал:
«Я на одну черту от блаженства».
– Подойдемте к адъютанту, я буду его мистифицировать…
Она оставила Онагра и шепнула ему:
– Помните, до завтра.
– До завтра! – повторил он выразительно.
Господин высокого роста и крепкого сложения, следивший за коричневым домино, мрачно взглянул на адъютанта и на Онагра; усы его пошевельнулись с какою-то торжественностию, а губы сделали такое движение, как будто он затягивался…
Долго прохаживался Онагр по залам, поглядывая на маски в золотой лорнет, но они не обращали на него внимания; одна только мимоходом пропищала ему: «Bon soir!», а другая, у которой на руках были широкие темно-бурые перчатки, погрозила пальцем. Он искал Катерины Ивановны и адъютанта – и не находил их.
«Странно! – говорил он сам себе, – маски сами должны бы подходить ко мне: теперь, верно, уж всему Петербургу известно, что у меня тысяча восемьсот душ и сто семьдесят пять тысяч…»
Он остановился… легкий трепет пробежал по его членам: в двух шагах от него стоял лев, против которого два раза удалось ему обедать за общим столом у Дюме…
– Comment votre sante? – сказал ему Онагр робким голосом, краснея и прикладывая дрожащую руку к шляпе.
Лев едва заметно пошевельнулся и с величием львиным произнес:
– Здравствуйте.
Это «здравствуйте», переведенное с львиного на человеческий язык, означало: «Что тебе надобно от меня? Зачем ты мне кланяешься?»
– Сегодня в маскараде много публики, – продолжал Онагр еще с большею робостию.
Лев пробормотал: «Да», и отодвинулся от Онагра.
Онагр запел про себя какую-то песенку, споткнулся, поправил шляпу и виски и подскочил к толстой госпоже в маске и в белом кисейном платье.
– Бо-маск! Отчего вы одни? Тебя не занимает маскарад?
Кисейное платье молчало.
– Ты не хочешь говорить со мной?
Кисейное платье повернуло голову к стене.
– Зачем вы отвертываетесь?
– Отстаньте! – закричало кисейное платье. – Что вы пристали-то?
– Зачем вы сидите одни? Пройдемтесь со мною.
– Не на такую напали: у меня есть свой кавалер. Прошу не беспокоиться.
Нечего было делать. Онагр отошел от грозного кисейного платья и принужден был прогуливаться один. Ему становилось скучно, он уже зевнул раза два и посмотрел на часы. К счастию, в эту минуту окружили его несколько приятелей, известных танцоров и любезников среднего круга. Он сделался центром этого избранного кружка, и между ними тотчас завязался живой и остроумный разговор. Вдруг, в самом пылу разговора, Онагр почувствовал легкое прикосновение к своему плечу; он обернулся: возле него стояла в театральной позе женщина в черном и коротеньком домино.
– Я вас знаю, – сказала она.
– В самом деле?
Онагр предложил ей свою руку и отправился с нею.
– У вашего кучера светло-голубая шуба и глазетовый кушак, – продолжала она.
– Точно. Ты говоришь правду, бо-маск.
– Вы недавно получили большое наследство.
– И то правда; впрочем, я всегда был богат.
– Вы всё ходите по Невскому.
– Хорошо. Еще что?
– Вы влюблены в одну даму, которую зовут Катериной Ивановной, и она отвечает вам.
– Diable, бо-маск! Все верно как нельзя больше! Почему же ты это знаешь?
– Скоро состареетесь, не скажу. Вы все, мужчины, прелюбопытные.
– Нет, женщины гораздо любопытнее.
– Извините. А сказать вам, как вас зовут?
– Скажи.
– Петр Александрыч.
Онагр стал заглядывать под маску.
– Полноте, что это вы?
– Снимите маску.
– Что вы, с ума сошли?
– Отчего?
– Вы часто мимо наших окон ездите.
– А где ты живешь?
– Отгадайте.
– Я отгадывать не умею.
Онагр снова заглянул под маску и пожал таинственной незнакомке руку.
– Зачем вы со мной ходите? На вас рассердится Катерина Ивановна.
– Пусть ее сердится.
– Как же: ведь вы влюблены в нее? Вам другими нельзя заниматься.
– Очень можно.
– Стало быть, вы ветреник?
– Хочешь испытать мое постоянство?
– Я вас боюсь… Какая у вас миленькая цепочка!
– Тебе нравится? Хочешь, я прикую тебя к моему сердцу этой цепочкой?
Однако в припадке нежностей и в жару объяснений Онагр почувствовал аппетит.
– Бо-маск, хочешь со мною ужинать?
– Пожалуй.
– Ты любишь трюфели, бо-маск?
– Мне все равно.
И они начали взбираться по лестнице в верхние залы. На половине лестницы маска сказала Онагру:
– Вернемтесь.
– Зачем?
– Так.
Перед Онагром и его неведомой спутницей очутился офицер с золотыми эполетами. Он пристально посмотрел на последнюю.
– Поздравляю тебя, братец, – шепнул он Онагру.
– С чем?
– Да знаешь ли, кто твоя дама?
– Нет.
– Это Маша, моя старая приятельница. Посмотри, она на меня сердится, отворачивается от меня, – а славная, братец, девочка. Конечно, далеко не то, что Лиза… Мы с Лизой выдумали сейчас свой язык, – она будет вести со мною разговоры со сцены.
– Так это Маша? Вот что!.. Ты ей рассказал все мои секреты?
– Что ж за беда?
– Нет, ничего… «Гм! – подумал Онагр, – очень кстати: у меня будет связь в обществе и связь на сцене: это необходимо для настоящего светского человека; об этом и Бальзак пишет, и вся петербургская молодежь большого света придерживается этой моды. Я буду кататься, как сыр в масле».
За ужином Маша совершенно подружилась с Онагром. Она развязала на минуту свою маску и вскользь показала ему свое личико. Он был в восторге и от ее красоты, и от ее любезности. Она кушала с аппетитом и довольно часто прикладывала бокал к своим губам, грациозно поддерживая кружевную бородку своей маски. После ужина Онагр, проходя мимо офицера с золотыми эполетами, сказали ему:
– Решено, душа! какую я квартиру найму для нее, как одену ее – точно куколку…
Было около трех часов. Залы пустели; отчаянные гуляки допивали последние бокалы и, покачиваясь, сходили вниз… В ложах давным-давно никого. Какой-то пьяный франт в светло-синей венгерке с черными шнурками, причесанный a la moujik, кричал музыкантам: «Довольно!.. Я вас не хочу больше слушать!» Какие-то сомнительные физиономии ходили взад и вперед, с неудовольствием посматривая на крикуна; квартальный надзиратель стоял посреди залы, величественно подбочась; капельдинер дремал у боковой двери, да штатский с изнеженными движениями сидел у самого оркестра и не сводил глаз с музыкантов, потому что он был меломан.
Скоро и музыканты начали собираться домой.
Все разошлись и разъехались… Все…
Нет, не все еще: облокотись на прилавок, где разбирают шинели и шубы, стоял офицер с серебряными эполетами и страстно смотрел сквозь очки на толстую пастушку, у которой сзади не сходился корсет. Пастушка была уже без маски: пот градом катился по ее воспаленному лицу, и она обвевала его носовым платочком.
Огни потухали в окнах театра.







