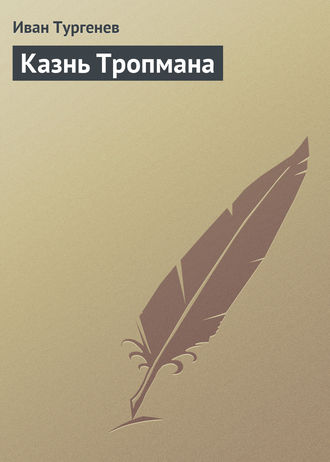
Иван Тургенев
Казнь Тропмана
Невольно ставил я себе вопрос: о чем думает в эту минуту эта столь покорно наклоненная голова? Держится ли она упорно и, как говорится, стиснув зубы, за одну и ту же мысль: «Не поддамся, мол, я»; проходят ли вихрем по ней разнообразнейшие – и, вероятно, всё незначительные воспоминания прошлого; представляется ли ей с какой-нибудь особенной предсмертной гримасой один из членов семейства Кинков; или она просто старается ни о чем не думать, эта голова, и только твердит самой себе: «Это ничего, это так, вот мы посмотрим…», и будет она так твердить до тех пор, пока смерть не обрушится на нее – и отпрянуть будет некуда…
А старичок все стриг да стриг… Волосы скрепили, захваченные ножницами… Наконец, и эта операция кончилась. Тропман быстро встал, встряхнул головою… Обыкновенно в эту минуту те осужденные, которые еще могут говорить, обращаются с последней просьбой к директору тюрьмы, напоминают об оставшихся долгах или деньгах, благодарят сторожей, просят доставить родным последнюю записку или клок волос, передать последний поклон… но Тропман, очевидно, не был обыкновенным осужденным; он пренебрегал подобными «нежностями» – и не произнес ни единого слова; он молча ждал. Ему на плечи накинули короткую куртку – палач взял его под локоть…
– Послушайте, Тропман (Voyons, Tropmann!), – раздался, среди гробовой тишины, голос г. Клода. – Теперь, через минуту, все будет кончено. Вы продолжаете настаивать (vous рег-sistez) на том, что у вас были сообщники?
– Да, сударь, продолжаю (Oui, monsieur, je persiste), – отвечал Тропман тем же приятным, твердым баритоном – и слегка нагнулся вперед, как бы учтиво извиняясь и даже сожалея, что не может отвечать иначе.
– Eh bien! allons![10] – промолвил г. Клод, и мы все тронулись; мы вышли на тюремный большой двор.
XI
Было без минуты семь часов – но небо едва посветлело, и тот же тусклый пар заливал весь воздух и скрадывал очертания предметов. Рев толпы охватил нас непрерывной, нестерпимо зычной волной, как только мы переступили порог. По каменной мостовой двора быстро двигалась – прямо к воротам – наша поредевшая кучка: некоторые из нас отстали – да и я, хотя и шел вместе с другими, однако держался немного в стороне. Тропман проворно семенил ногами – путы мешали ему – и каким он мне тут показался маленьким, почти ребенком! Вдруг перед нами медленно, словно пасть, раскрылись обе половины ворот – и разом, как бы сопровожденное громадным визгом обрадованной, дождавшейся толпы, глянуло на нас чудовище гильотины с своими двумя узкими черными столбами и вздернутым топором. Мне вдруг стало холодно до тошноты; мне казалось, что и холод этот вторгся к нам на двор через те ворота; ноги у меня подкосились. Однако я еще раз взглянул на Тропмана. Он внезапно отклонился назад, и голову завалил, и согнул колена, словно кто толкнул его в грудь – «он в обморок упадет!» – шепнул чей-то голос возле меня… Но он тотчас же оправился – и твердой поступью пошел вперед. Мимо его побежали на улицу те из нас, которые хотели видеть, как голова его скатится… У меня на это не хватило духа; с замиравшим сердцем остановился я у ворот…
Я видел, как палач вдруг черной башней вырос на левой стороне гильотинной площадки; я видел, как Тропман отделился от кучки людей, оставшихся внизу, и взбирался по ступеням (их было десять… целых десять ступеней!); я видел, как он остановился и обернулся назад; я слышал, как он промолвил: «Dites a monsieur Claude…»[11] Я видел, как он появился наверху, как справа и слева два человека бросились на него, точно пауки на муху, как он вдруг повалился головой вперед и как подошвы его брыкнули…







