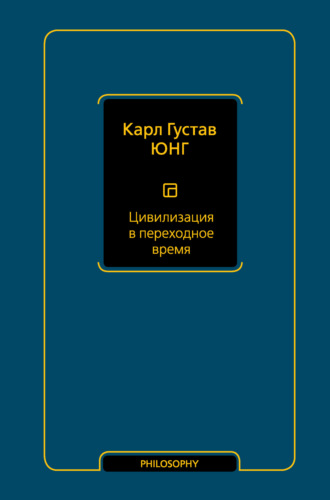
Карл Густав Юнг
Цивилизация в переходное время
127 Этот разговор, о котором я упомянул, состоялся там, где нет змей и малярийных комаров, ничуть нас не взволновал и не насторожил. Но подумайте о бархатистой синеве тропической ночи, гигантских, нависающих над головой черных деревьях девственного тропического леса, таинственных криках, доносящихся откуда-то издалека, о положенных рядом заряженных ружьях, москитных сетках, кипяченой воде из болот; вспомните, кроме того, убежденность, которую старый опытный африканец выразил следующими словами: «You know, this isn’t man’s – it’s God’s country» («Это ведь не страна людей, а страна Бога»). Там царь не человек, а природа, животные, растения и микробы. Именно это определяет настроение, и вполне осознаешь, откуда берутся те связи, над которыми ты раньше смеялся. Это мир ничем не ограниченных произвольных сил, с которыми первобытному человеку ежедневно приходится иметь дело. Необычное для него – не шутка. Он делает из необычного свои выводы – «это нехорошее место», «день сегодня неблагоприятный»; кто знает, скольких опасностей он сможет избежать благодаря таким предостережениям!
128 Magic is the science of the jungle. Знамения становятся причиной немедленного отказа от производимых до того действий, отмены запланированных предприятий, изменения психологической установки. Это совершенно целесообразные шаги ввиду группировки случайностей и ввиду полного незнания первобытными людьми психологической причинности. Мы научились, благодаря одностороннему предпочтению так называемых естественных причин, отделять субъективно-психическое от объективно-естественного. Первобытный человек, напротив, полагает свое психическое вовне, в окружающих предметах. Его не удивляет, что предмет обладает маной, колдовской силой, и отсюда проистекают все невидимые влияния, которые нам представляются следствиями внушения и воображения; для него это воздействие извне. Его ландшафт не является ни географическим, ни геологическим, ни политическим. Он содержит мифологию, религию, все мысли и чувства в той степени, в какой остается непознаваемым. Страх дикаря локализован в известном месте, которое представляется ему «нехорошим». В том лесу обитают духи умерших. В той пещере живет бес, который душит всякого, кто туда войдет. В той горе обитает змея, в том холме могила легендарного царя; искупавшись вон в том источнике, на той скале или под тем деревом, всякая женщина беременеет; в том броде подстерегают демоны в облике змей, а у того большого дерева есть голос, которым оно зовет известных ему людей. У первобытного человека нет психологии. Его психика объективна и развертывается вовне. Собственно, его сновидения являются реальностью, если он вообще обращает на них внимание. Мои спутники у горы Элгон, например, вполне серьезно утверждали, что не видят никаких снов, что сны приходят только колдуну. Когда я спросил об этом колдуна, тот ответил, что перестал видеть сны с тех пор, как в их страну пришли англичане. Да, его отец видел великие сны, он знал, на какие пастбища надо отгонять скот, где пасти коров с телятами, когда начнется война или чума. Теперь все знает окружной комиссар, а они, местные, не знают ничего. Он смирился с этим, как известный папуас, который верит в то, что бо́льшая часть крокодилов перешла на работу в английскую администрацию. Дело в том, что однажды местный заключенный бежал из-под охраны и при попытке перейти вброд реку был сильно покалечен крокодилом. Из этого папуасы заключили, что на него напал, должно быть, полицейский крокодил. Теперь Бог говорит в сновидениях именно с англичанами, но не с колдуном, поскольку вся власть – у англичан. Функция сновидца, следовательно, сместилась. Души от случая к случаю ускользают, и знахарь-колдун ловит их в клетки, как птиц. Или помогает, когда в местных вселяются чужие души и вызывают болезни.
129 Эта проекция психического естественным образом порождает отношения между людьми, животными и предметами, что кажется нам абсолютно непостижимым. Белый охотник убивает крокодила. Сразу же после этого из близлежащей деревни прибегают люди и в сильнейшем возбуждении требуют возмещения ущерба. Дескать, этот крокодил был одной деревенской старухой, которая умерла в тот миг, когда прозвучал выстрел. Ее бушменская душа, очевидно, обитала в этом крокодиле. Другой человек застрелил леопарда, который угрожал его скоту. В то же время в соседней деревне умерла женщина. Она была тождественна этому леопарду.
130 Леви-Брюль придумал для таких странных отношений термин participation mystique (мистическая сопричастность). Мне кажется, что слово «мистическое» он выбрал не вполне удачно, ибо для первобытного сознания тут нет ничего мистического: эти явления вполне естественные. Нам они кажутся чем-то особенным только потому, что нам подобное психическое расщепление, видимо, сложно представить. Но на самом деле оно встречается и у нас, но в не столь наивной, а в более цивилизованной форме. Например, практически само собой разумеется, что мы приписываем другим людям наши собственные психологические особенности, воображая, что другим нравится или дорого то, что нравится и дорого нам; что дурное для нас должно быть дурным и для них. Наше судопроизводство, скажем, лишь в Новейшее время набралось смелости и признало психологическую ограниченность приговоров и судебных решений. Равенство перед законом является очень ценным достижением. Все плохое и низменное, чего человек не желает видеть в себе, он приписывает, разумеется, другим, которых надо критиковать и которым надлежит противостоять, хотя в действительности мы имеем дело с переселением низменной души из одного человека в другого. Мир до сих пор полон «злых гениев» и козлов отпущения, как раньше он кишел ведьмами и оборотнями.
131 Психологическая проекция, или, по Леви-Брюлю, «мистическая сопричастность» (заслуга Леви-Брюля в том, что он выделил этот признак как выдающееся свойство первобытного человека), видится вполне обыденным психическим явлением, которое мы называем по-другому и которое, как правило, не хотим признавать. Все, что не осознаем в себе, мы обнаруживаем у ближнего и ведем себя по отношению к нему соответствующим образом. На ближнем не испытывают действие ядов, не сжигают на костре, не ломают кости, но ему с полной убежденностью приписывают моральную ущербность. То, чему противостоят в ближнем, является между тем собственной неполноценностью.
132 Вследствие отсутствия дифференциации сознания и обусловленного этим фактом полного отсутствия самокритики, первобытный человек проецирует больше, чем мы. Поскольку это проецирование кажется ему совершенно объективным, постольку он характеризует свои проекции довольно образно. Шутки ради можно вообразить кого угодно на месте женщины-леопарда – с тем же успехом, что и на месте гуся, коровы, курицы, змеи, быка, осла, верблюда и т. д. (каждый подберет эпитеты по собственному разумению). Только моральные терзания с их ядом целиком чужды бушменской душе, для этого архаический человек слишком натуралистичен, находится под слишком сильным воздействием сущего, которое побуждает его к суждениям намного слабее, чем нас. Индейцы пуэбло деловито объясняли мне, что я принадлежу тотему медведя, то есть являюсь медведем, потому что спускаюсь с горы за проводником не как свободный человек, на двух ногах, а как медведь, на четырех. Если бы в Европе кто-нибудь объявил меня пещерным медведем, это случилось бы, наверное, в каком-то ином контексте. Мотив первобытной души, столь странный для нас у дикарей, сделался фигурой речи, как и многое другое. Если мы переведем метафоры в конкретику, то получим первобытное мировоззрение. Возьмем для примера выражение «оказывать врачебную помощь». На языке первобытных людей оно прозвучит как «наложение рук», то есть будет полностью соответствовать действиям шаманов и знахарей.
133 Затруднение понимания бушменской души заключается в том, что нас озадачивает и сбивает с толка конкретное представление о полном расщеплении души и вселении ее части в дикое животное. Если мы называем кого-то верблюдом, то при этом ни в коем случае не имеем в виду, что данный человек во всех отношениях является млекопитающим из семейства верблюдовых, а подразумеваем образное соотнесение с повадками верблюда. Тем самым мы расщепляем личность, или душу, человека, о котором идет речь, и персонифицируем одну из ее частей как верблюда. То же самое происходит и в случае женщины-леопарда – она человек, только второй частью души владеет леопард. Поскольку для первобытного человека все неосознаваемое конкретно, он говорит о леопарде, душе леопарда, а при более глубоком понимании расщепления посчитает, что душа леопарда в виде настоящего зверя живет в буше.
134 Действующее за счет проекции обозначение тождества порождает мир, в котором человек обитает не только физически, но и душевно; в некоторой степени он растворяется вместе с этим миром. Человек не является властелином мира, он – его часть. То есть первобытному человеку далеко до современного партикуляризма. Этот человек не мечтает стать венцом творения. В зоологической классификации первобытных племен венчает ее не Homo sapiens; высшим существом является слон, затем идет лев, потом гигантский удав или крокодил, за ними человек, а дальше располагаются низшие животные. Человек включен в природу. Он не думает, что может повелевать природой, поэтому самые смелые его устремления обусловлены желанием защититься от опасных случайностей. Цивилизованный человек, напротив, пытается подчинить себе природу, поэтому его главное стремление состоит в том, чтобы познать причины, которые дадут ему ключ в тайную мастерскую природы. Ему в высшей степени противна мысль о произвольности и возможности существования произвола, ибо он с полным правом усматривает в том доказательство тщетности любых попыток взять верх над природой.
135 Подытоживая, я бы хотел сказать вот что: принципиальной особенностью архаического человека является его установка на случайную произвольность, этот фактор для него куда важнее, нежели естественные причины. Имеет место произвольность случайности, проявляющаяся, с одной стороны, в фактическом группировании событий, а с другой стороны, в проекции бессознательной психики, в так называемой мистической сопричастности. Для архаического человека, разумеется, этой разницы не существует, ибо психическое у него проецируется настолько полно, что он не отличает его от объективного физического события. Для него случайности являются вмешательством одушевленных сил, то есть намеренными произвольными актами. Он не чувствует, будто нечто чрезвычайное потрясает его только по той причине, что он сам придает ему силу своим удивлением или страхом. Здесь мы, конечно, ступаем на весьма опасную почву. Красива какая-то вещь потому, что я наделяю ее красотой? Или объективная красота вещи заставляет меня считать ее красивой? Известно, что величайшие умы пытались решать эту задачу: священное ли солнце освещает мир или мы видим тот освещенным благодаря устройству наших глаз? Архаический человек верит в солнце, а цивилизованный – в глаза, если он не страдает поэтической болезнью или если вообще об этом задумывается. Современный человек должен лишить природу души, чтобы властвовать над нею; иными словами, он устраняет все архаические проекции, по крайней мере, там, где хочет быть объективным.
136 В архаическом мире все имеет душу: перед нами душа человека, или, лучше сказать, душа человечества, коллективное бессознательное; ибо индивидуум еще лишен души. Не будем забывать, что христианское таинство крещения стало вехой, знаменующей величайший переход в душевном развитии человечества. Крещение дает человеку истинную душу; это не единичный магический ритуал окунания в воду, это вырывание человека из архаического единства с миром, превращение в существо, осмысляющее мир. Тот факт, что человек достиг высот этой идеи, является в глубочайшем смысле крещением и рождением духовного, а не природного человека.
137 В психологии бессознательного имеется фундаментальное положение о том, что каждая относительно самостоятельная часть души носит личностный характер, то есть она тотчас олицетворяется, едва получая возможность самостоятельного внешнего проявления. Самые великолепные примеры можно найти в галлюцинациях душевнобольных и в коммуникации медиумов. Там, где проецируется самостоятельная часть души, возникает невидимая личность. В спиритизме, как и в первобытных обществах, возникают духи. Если существенная часть души проецируется на какого-то человека, он получает ману, обретает необычную влиятельность, признается колдуном, ведьмой, оборотнем и т. д. Наиболее отчетливо иллюстрирует сказанное первобытная идея о том, что колдун ловит в клетки бродящие по ночам части душ, как птиц. Эти проекции несут колдуну ману, заставляют зверей, деревья и камни говорить и совершать насилие, поскольку они тоже – частички душ, находящиеся в безусловном подчинении у этого человека. По этой причине душевнобольной неминуемо подпадает под влияние своих внутренних голосов, ибо эти проекции являются его собственной душевной деятельностью, осознающим субъектом которой он выступает в той же степени, что и слушающим, видящим и повинующимся.
138 С точки зрения психологии первобытная теория о том, что произвольная власть случайности есть результат деятельности духов и колдунов, вполне естественна и неизбежна. Но не будем обманываться в этом отношении! Если мы представим умному первобытному человеку наше совершенно научное объяснение какого-либо феномена, он тут же обвинит нас в смехотворном суеверии и в ужасном отсутствии логики, ибо он убежден, что солнце, а не глаза, освещает мир. Однажды мой друг Горное Озеро, вождь племени пуэбло[70], дал мне достойную отповедь, когда я угостил его августинским аргументом о dominus noster (Господе нашем): «Non est hic sol dominus noster, sed qui illum fecit» («Не солнце наш господин, а тот, кто его сотворил»). Он возмутился. «Тот, кто ходит там, – заявил он, указывая на солнце, – и есть наш отец. От него исходит весь свет, вся жизнь; нет ничего такого, что не было бы его творением». Он сильно разволновался и воскликнул: «Даже человек, одиноко странствующий в горах, не сможет без солнца добыть огонь!» Лучше, чем такими словами, трудно охарактеризовать архаический взгляд на мир. Вся власть находится вовне, только благодаря ей возможно все сущее. Нетрудно увидеть, что религиозное мышление и в наше безбожное время поддерживает и содержит архаическую духовность. Так думают и мыслят до сих пор миллионы людей.
139 Когда мы выше обсуждали основополагающую первобытную установку на произвольность случая, я высказал мнение, что подобное умонастроение надо признать целесообразным и полезным. Давайте – по крайней мере, на мгновение – отважимся выдвинуть гипотезу о том, что первобытная теория о произвольной власти случая имеет не только психологическое, но и вещественное обоснование. Я не собираюсь ломать двери и крушить мебель, убеждая слушателей в истинности и материальности колдовства. Я просто хочу вместе со слушателями подумать, к каким выводам можно прийти, если вместе с первобытными людьми принять, что весь свет исходит от солнца, что вещи красивы сами по себе и что часть человеческой души может быть леопардом, – то есть признать верной первобытную теорию маны. Согласно этой теории, красота движет нами, а не мы сами ее создаем. Дьявол – кто-то другой, не мы проецируем на него наше зло, превращая другого тем самым в дьявола. Существуют внушающие почтение люди, так называемые личности, наделенные маной; они таковы сами по себе и своим существованием никоим образом не обязаны силе нашего воображения. Теория маны утверждает, что должна существовать всеобщая, всепроникающая сила, объективно проявляющая свое действие. Она может быть (существовать) лишь благодаря своей энергии. Все сущее является силовым полем. Первобытная идея маны тем самым выражает психическую энергетику.
140 Пока мы без особых затруднений следовали за первобытным мышлением. Если же этот взгляд, сам по себе вполне последовательный, развить дальше, то психические проекции, о которых мы говорили, превратятся в свою противоположность: не мое воображение или эмоция делают из знахаря чародея, он в самом деле является чародеем и проецирует свое магическое воздействие на меня; это не я порождаю галлюцинации духов, а они сами являются мне по собственному побуждению. Когда мы сталкиваемся с такими утверждениями, логическими производными теории маны, то вынуждены оглядываться по сторонам в поисках наших чудесных теорий о психологических проекциях. В реальности тут подразумевается следующий вопрос: возникает ли психическая функция, душа, дух или бессознательное, во мне, или психика в начале формирования сознания существует вовне в форме целесообразных и произвольных сил, а далее постепенно врастает в человека по мере его душевного развития? Были ли так называемые отщепленные части души на самом деле частями целостной индивидуальной души – или, скорее, это существующие в себе психические единицы (в первобытном определении – духи, души предков и т. п.), которые в ходе развития внедрялись в человека, составляя в нем тот мир, который мы теперь обозначаем как психику?
141 Этот ход рассуждения выглядит, разумеется, сомнительным парадоксом. Но если принять во внимание его основания, он покажется достаточно здравым. Это подход не просто религиозный, но отчасти педагогический, поскольку мы можем посеять в человеке нечто психическое, чего в нем до этого не было. Существуют внушение и влияние, а наисовременнейший бихевиоризм[71] в этом отношении питает весьма экстравагантные надежды. Идея комплексного совокупного развития психики оказывает влияние на первобытные воззрения в различных формах, например, в виде широко распространенной веры в одержимость, инкарнацию предков, переселение душ; да и мы, поднимая бокал «за здравие», произносим фразу, имеющую смысл: «Будем надеяться, что новая душа тебе не повредит». О комплексном совокупном развитии напоминает и то наше ощущение, когда мы чувствуем, что в процессе собственного развития достигаем единства и цельности личности, избавляясь от множества противоречивых ипостасей. Наше тело состоит из множества менделевских единиц[72]; нельзя исключать, что психика разделяет с телом эту участь.
142 Материалистические воззрения нашего времени лелеют сходное убеждение и выказывают сходное с архаическими устремление, то есть приводят к тем же окончательным выводам, к признанию, что индивидуум выступает в первом случае результатом слияния естественных причин, а во втором – возникает из произвольных случайностей. В обоих случаях человеческая индивидуальность признается несущественным и случайным плодом воздействия субстанций окружающей среды. Это воззрение вполне укладывается в архаическую картину мира, где обычный отдельный человек нисколько не значим: он заменяем и преходящ. Материализм на обходном пути строжайшей причинности вернулся к первобытному восприятию. Однако материалист радикальнее, так как взгляд его более систематический, нежели взгляд первобытного человека. Последний обладает преимуществом непоследовательности: он исключает личностей, наделенных маной. В ходе исторического развития те достигли положения божественных фигур, героев и богоподобных царей, которые питаются неиссякаемой пищей богов и обрели бессмертие. Да, идея бессмертия индивидуума, его непреходящей ценности, обнаруживается уже на ранних этапах архаики, прежде всего в вере в духов; затем в мифах о временах, когда не существовало смерти, что явилась в мир в результате какого-то глупого недоразумения или чьей-то небрежности.
143 Первобытный человек не осознает этой противоречивости своего мировоззрения. Мои негры уверяли меня в том, что не знают, что с ними произойдет после смерти. Они умрут, перестанут дышать, их отнесут в буш, где трупы сожрут гиены. Так они думают днем; ночами же мир наполняется духами умерших, которые наводят порчу и болезни на людей и скот, нападают на ночных путников и душат их, и т. д. Европеец мог бы просто разорваться от подобных противоречий, присущих первобытному мышлению. Есть университеты, в которых мысль о божественном вмешательстве объявляется непререкаемой истиной, а при них существуют богословские факультеты. Ученый-материалист, который посчитал бы недостойным для себя приписывать даже мельчайшее изменение какого-либо вида животного акту божественной воли, может придерживаться установленной христианской религии, которая каждое воскресенье доказывает свое влияние. Тогда к чему нам возмущаться первобытной непоследовательностью?
144 Из первобытного мышления человечества попросту невозможно вывести какую-то философскую систему – лишь прозрачные антиномии, которые, однако, образуют неисчерпаемую основу всей духовной проблематики. Являются ли коллективные представления архаического человека глубокими или только кажутся таковыми? Существовал ли смысл с самого начала или он был сотворен человеком позднее? Я не могу ответить на эти сложнейшие вопросы, но хотел бы – в заключение – рассказать еще об одном наблюдении, которое сделал у горы Элгон. Я расспрашивал всех подряд о каких-нибудь следах религиозных идей и церемоний, но на протяжении многих недель не обнаружил ровным счетом ничего. Мне позволяли ходить куда угодно и охотно отвечали на мои вопросы. Я мог общаться без неуклюжей помощи туземного переводчика, ибо многие старики говорили на суахили. Сначала люди стеснялись и были весьма сдержанными и скрытными, но, когда лед удалось сломать, принимали меня вполне дружелюбно. Они ничего не знали о религиозных обычаях. Я не унимался, и однажды, в конце очередной бесплодной беседы, один старик вдруг воскликнул: «Утром, когда встает солнце, мы выходим из хижин, плюем на ладони и подставляем их солнцу». Я упросил показать мне церемонию и точно ее описать. Местные плюют или изо всех сил дуют на приставленные ко рту ладони, а затем поворачивают их к солнцу. Я спросил, что это значит, зачем они это делают, зачем дуют или плюют на ладони. Но все было напрасно: ответ был один – так делали всегда. Получить какое-либо вразумительное объяснение было решительно невозможно, и мне стало совершенно ясно, что туземцы и вправду знали, что они это делают, но не понимали, что именно делают. Они не видели никакого смысла в этом действе. Таким же образом приветствуют они и новую луну.
145 Давайте вообразим, что я – полный чужак и приезжаю в этот город, чтобы исследовать местные обычаи. Сначала я поселяюсь вблизи от нескольких вилл на Цюрихберге, с жителями которых регулярно сталкиваюсь. Теперь я спрашиваю господ Мюллера и Мейера: «Расскажите мне, пожалуйста, что-нибудь о ваших религиозных обычаях». Оба господина немало озадачены. Они не ходят в церковь, ни о чем не знают и отрицают, что соблюдают какие бы то ни было обычаи. На дворе весна, скоро наступит Пасха. Однажды утром я застаю господина Мюллера за странным занятием: он с деловым видом ходит по саду, втыкая в землю раскрашенные яйца и странные фигурки зайчиков. То есть я застукал его на месте преступления. «Почему вы не рассказали мне об этой чрезвычайно интересной церемонии?» – спрашиваю я. Он отвечает: «Какой еще церемонии? Это не церемония. Просто так всегда делают на Пасху». – «Но что тогда означают яйца, фигурки и ваши действия?» Господин Мюллер явно озадачен и растерян. Он сам этого не знает, в такой же мере, в какой не знает, что означает рождественская елка, но он ставит и украшает ее точно так же, как первобытные люди плюют на ладони. Может быть, предки первобытных людей лучше понимали происходящее? Это весьма маловероятно. Архаический человек делает так, как заведено, и только цивилизованный человек знает, что именно он делает.
146 Что же, в таком случае, означает упомянутая мной церемония туземцев? Очевидно, что это жертвоприношение восходящему солнцу, которое только в этот миг становится «мунгу», исполняется маны, божественности. Слюна – субстанция, которая по воззрениям первобытного человека обладает целительной, колдовской и жизненной силой. Дыхание, или зохо (по-арабски «рух», на иврите «руах», по-гречески «пневма»), – это ветер и дух. Действо как бы говорит: я предлагаю своему богу мою живую душу. Это немая молитва, молитва действия, и звучать она могла бы так: «Боже, в руки твои предаю дух мой».
147 Случайно ли все описанное или мысль о нем была продумана и осознана еще до появления человека? Этим вопросом, на который у меня нет ответа, и хотелось бы закончить мой доклад.







