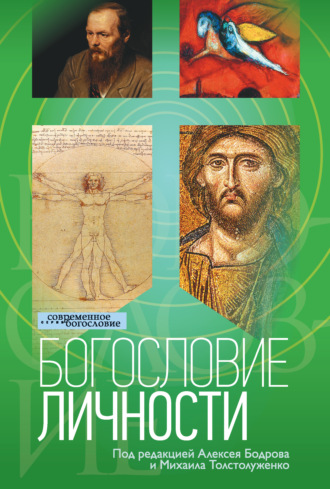
Коллектив авторов
Богословие личности
В конце концов, ему кажется, что он обращен совсем в ничто. Теперь наступает важный момент. На кого ему следует желать быть похожим, кроме Бога? Однако если он сам нечто [в своих собственных глазах] или хочет быть чем-то, тогда этого достаточно, чтобы помешать [появлению] сходства. Только когда он сам становится совершенно ничем, только тогда Бог может светить сквозь него, чтобы он уподобился Богу. Чему бы он ни был равен в других отношениях, он не может выразить подобие Бога, но Бог может запечатлеть в нем свое подобие, только когда он стал ничем. Когда море напрягает все свои силы, тогда ему определенно невозможно отразить образ неба, и даже малейшее движение подразумевает, что отражение не совсем правильное; но когда море становится неподвижным и глубоким, тогда образ неба нисходит в его ничто»[121].
Победа – это не то, чего ожидает молящийся, однако, несмотря ни на что, это победа. «Разве не было победы в том, – риторически спрашивает Керкегор, – что вместо получения от Бога объяснения он преобразился в Боге, и суть его преображения в том, что он теперь отражает образ Божий»[122]. Выражаясь в терминах классического христианского богословия, знать, что мы созданы по образу Божьему и можем быть людьми только будучи носителями этого образа, уже означает иметь уверенность в том, что мы имеем и всегда имели Бога с нами и даже внутри нас – если мы временно перестали замечать это. Однако в мирском смятении, при сложившихся обстоятельствах, обратную дорогу к этой уверенности мы обычно находим только в борьбе. Простая пассивность – дрейф по течению мира – подробно критикуется Керкегором в другом месте, но тот факт, что мы должны прилагать усилия, чтобы идти против течения ожиданий общества относительно того, кем нам хорошо было бы стать, не может отменить то обстоятельство, что «ответ» (или «победа») находится, только когда, поборовшись, мы отказываемся от борьбы и становимся как бы ничем.
Но что это дает нам по отношению к вопросу о личности и молитве?
Первое соображение, которое надо высказать, заключается в следующем. Предел, которого достигает борющаяся в молитве душа, когда она отказывается от самостоятельного понимания в пользу «божественного» толкования ситуации, определяется тем, что она сотворена по образу Божьему, что она «подобна» Богу. Необходимость подчиниться этому новому пониманию ясно указывает на момент пассивности, однако в этот момент отказа она кое-что приобретает, а именно осознание следующего обстоятельства: она живет в том, что Фихте, возможно, назвал бы сверхчувственным миром, т. е. в отношении взаимной свободы, которое называется «любовью Бога» и неразрывно связанной с ней любовью к благу.
В другой речи, одной из трех о том, что он назвал своим «любимым» текстом: «всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть»[123], Керкегор подчеркивает, что благо для людей может быть понято и принято только как дар Бога, так как Бог – единственный источник и сущность благости. Однако Керкегор добавляет: «Со стороны Бога не является совершенством то, что только Он обладает им [Благом], но совершенством Блага является то, что человек может участвовать в нем только благодаря Богу. Ибо что есть Благо? То, что приходит свыше. Что такое совершенство? То, что приходит свыше. Откуда оно приходит? Свыше. Что такое Благо? Это Бог. Кто дает его? Бог». Тогда наша способность получать и творить благо абсолютно зависит от Бога. И все же, как разъясняют другие тексты Керкегора (в особенности, может быть, длинная речь, известная под названием «Чистота сердца»), наша способность иметь понятие о благе неотделима от нашей воли и желания творить его: чистота сердца, как он неоднократно выражается, состоит в том, чтобы желать одного, а единственное, чего можно желать со всей прямотой и честностью, – это благо. Благо не может быть предметом теоретических знаний, но оно существует, только поскольку его хотят или выбирают.
Теперь Керкегор, кажется, очень схож с Кантом: тем не менее, вопреки Канту (но является ли это в конечном итоге несовместимым с Кантом – это другой вопрос), Керкегор настаивает на том, что добрая воля может появиться только как что-то данное и полученное – как дар. Однако добрую волю, т. е. моральную свободу, в качестве «дара» получают как уже данную, данную искренне и отданную таким образом, что получатель подлинно свободен в том, чтобы сделать ее своей. Следовательно, благодарность, которая, со строго кантианской точки зрения, казалось бы, указывает на остаточный элемент гетерономии, Керкегор считает свободным актом, т. е. свободным решением, согласно которому благодарность представляет собой более достойное выражение нашей возможности жить как свободные существа, нежели просто постулирование свободы в качестве самозарождающейся функции эго. В этом отношении она ближе к «schenkende Tugend» (дарящей добродетели) Ницше, чем к вынужденной благодарности экономического обмена. При взаимной свободе, которая предусматривает свободный акт благодарности и выражается в нем, отношение между Богом и человеком, таким образом, становится отношением любви, поэтому единственное, что мы, так сказать, «извлекаем из него», уделяя ему внимание, – это (еще раз вспомним историю о борце в молитве) пребывание рядом с Богом.
Кантианская картина существенно видоизменена. Однако, как я все время говорил, это подразумевает включение в нее элемента пассивности. Но как мы можем рассматривать вопрос соединения actus purus (чистого действия) свободы с пассивностью необходимости принимать каждый благой и совершенный дар – и саму свободу – из рук Бога, пассивно? Как мы можем описать состояние, в котором «я могу» возникает из «я не могу» или в котором «я могу» и «я не могу» фактически выражают одно и то же? Керкегор изображает зону, в которой активность и пассивность сходятся и в конечном счете объединяются в смысле уничтожения, прозрачности, чистого свечения, дара и благодарности. Как известно, Керкегор не был шокирован тем фактом, что «объяснение» того, каким образом собственная сущность может «преобразиться» в Бога, нельзя рационально выразить на одном уровне рассуждения и что оно имеет черту, которую он в другом месте называет «парадоксальной». Но можем ли мы придать концепции Керкегора бόльшую человеческую глубину и широту?
Для этого я обращаюсь теперь к ключевому отрывку в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Это рассказ «героя» романа Алеши Карамазова об изменившем его жизнь религиозном опыте. Алеша является послушником, но его духовник, святой старец Зосима, говорит ему, что Алеша должен покинуть монастырь и выполнить свое предназначение в миру. Из-за тяжелого кризиса в своей семье Алеша уже находится в состоянии большого эмоционального смятения, и тут умирает сам Зосима. Что еще хуже, ожидавшиеся признаки святости старца не появляются и имеет место скандальная сцена, во время которой некоторые члены общины обвиняют Зосиму в самозванстве. Хотя об описываемом опыте не повествуется как о молитве, весь контекст повествования позволяет нам увидеть Алешу как воплощение Керкегорова борца в молитве, когда он борется со своей совестью и в своем отношении к Богу за «объяснение» того, что эта головокружительная последовательность событий в его жизни означает для него и для его будущего жизненного призвания.
Во время бдения у тела Зосимы Алеше приснилось, что он увидел своего наставника среди гостей на брачном пире в Кане Галилейской, то есть внутри события, озаренного светом самого Христа. Проснувшись, Алеша выбегает наружу, в спокойный свет ранней осени. Достоевский пишет:
«Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною… Алеша стоял, смотрел, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.
Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить вовеки веков. «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…» – прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдился исступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и другие просят», – прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», – говорил он потом с твердою верой в слова свои…»[124]
Это длинный, сложный и яркий отрывок, в котором, как показывают цитаты в тексте, играют важную роль более ранние части романа, особенно записанные проповеди Зосимы. Кажется, есть достаточное основание рассматривать этот отрывок как описание «религиозного опыта» в духе Уильяма Джеймса, но при этом следует добавить, что, хотя весь контекст носит строго христианский характер (как в видении Каны Галилейской), сам опыт не описывается как имеющий специфически христианское содержание, и некоторые современные комментаторы видят в нем пример постхристианской «минимальной религии». По моему мнению, межтекстовые ссылки дают сильный аргумент в пользу «христианского» чтения, но литературное «подтверждение» той или другой точки зрения не имеет прямого отношения к нашим текущим рассуждениям. Как бы сильно или слабо ни был выражен христианский характер описания, оно иллюстрирует некоторые черты зоны схождения активности и пассивности, которое я считаю центральной чертой образа жизни молящегося. Весь отрывок отмечен частыми признаками неопределенности и неясности, того, что не может быть выражено ни устно, ни письменно, – и это в решающий момент романа, сочинения, которое зависит от того, что говорится и пишется (а в случае романа «Братья Карамазовы» говорится и пишется очень обстоятельно). Эта неопределенность имеет три заметных аспекта: когнитивный, эмоциональный и моральный. Давайте рассмотрим их внимательнее.
Я начну с когнитивной неопределенности. Тон задается тишиной, которая окружает всю сцену. Что вот-вот произойдет, что происходит – не говорится. Сцена начинается с внезапного падения на землю – «как подкошенный, повергся на землю» – т. е. это не сознательный акт самоунижения. «Он не знал, для чего» он обнимал землю, или не пытался понять. Слова и фразы звенели в его душе, но это было почти так, как будто он не произносил их. «Что-то» сходило в его душу, и «кто-то» посетил его – но что или кто? Нам не говорится. «Какая-то как бы идея» завладела им – но что за идея? Опять нам не говорится. Некоторые современные комментаторы говорят об апофатическом аспекте духовности Достоевского, в том смысле, что человеческий опыт встречи с Богом должен всегда и непременно быть так же предметом «незнания», как и знания. Тот факт, что это более последовательно выраженная черта духовных произведений русского православия, обеспечивает контекст для обращения Достоевского к такому незнанию, но даже без этого контекста – даже если мы находимся только в сфере минимальной религии – это должно считаться весьма апофатическим отрывком. Однако, как характерно для Достоевского, это передано в высшей степени неуловимо и изложено больше в выражениях уклончивых и неясных, чем в отчетливых отрицательных высказываниях относительно того, что испытывает Алеша. Между знанием и незнанием не существует простой разделительной линии, но есть зона неясности или двусмысленности.
Связь с апофатической традицией еще усиливается, если мы снова вернемся к проповедям Зосимы, в которых он в положительных терминах говорит об ощущении связи с другими мирами, которое является ключевой чертой опыта Алеши. «Многое на земле от нас скрыто, – говорит старец, – но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле»[125]. Этот мир сам представляет собой таинственную бездну, глубины которой никогда не может постичь человеческое знание (в данном отрывке ее красноречивым символом служит звездное небо).
Однако неопределенность переживания Алеши имеет также эмоциональную окраску. Он с самого начала «плакал, рыдал и обливал [землю] своими слезами», а его душа «вся трепетала». Многое можно было бы сказать о роли слез и трепета в романах Достоевского и в христианской традиции в более общем смысле, но в этом отрывке они подчеркивают именно то, что прочные границы, которые развитое эго поддерживает в своих отношениях с внешним миром, стали вдруг пористыми. Когда мы плачем, наше внутреннее состояние явно обнаруживается в нашем внешнем виде (который часто описывается как «обезображенный» слезами), и именно на ранней стадии формирования идентичности, особенно мужской, мы учимся не плакать открыто (то есть, опять-таки, не проявлять то, что традиционно считается женской склонностью «подчинять» свое «я», как в отмеченной Керкегором тенденции рассматривать молитву как женское занятие). Наоборот, слезы являются самым непосредственным признаком того, что внешние события (физическое повреждение) берут верх и определяют, как мы себя чувствуем. Более того, слезы буквально затуманивают ясность видения, при котором мир показывает нам себя и мы воспринимаем его как что-то внешнее по отношению к нам: мы больше не можем видеть его из-за слез и, не способные видеть его, не можем выделить себя из него. Однако слезы Алеши, хотя они и связаны с состоянием горя, в котором он провел последние несколько часов, являются «слезами радости», и, если часто считается, что слезы связаны с ребячеством, от которого мужчины должны избавляться, слезы Алеши являются основным в переживании, в котором «пал он на землю слабым юношей, а встал бойцом». Можно сказать, они являются средством при достижении им зрелости, при переходе от пассивности к активности. Меньшее ударение в этом отрывке делается на мотиве трепета, где господствует похожая логика, поскольку трепет нарушает четкий телесный контур эффективно функционирующего эго и, следовательно, указывает, что собственное «я» находится во власти всего, что бы ни охватило ее, вызывая трепет. Родион Раскольников, центральный персонаж «Преступления и наказания», на протяжении романа большую часть времени проводящий в состоянии трепета, заявляет, что его цель торжествовать над всеми тварями дрожащими, т. е. отстаивать независимость эго от его пассивного, чувственного окружения. В слезах и трепете Алеши, следовательно, мы видим, что неопределенное сближение активного и пассивного в собственном «я» носит не просто когнитивный (хотя, как правило, именно это больше всего интересует специалистов по философии религии), но и эмоциональный характер: это вряд ли могло быть иначе, если мы полностью осознаем, что значит для нас быть – действительно быть – воплощенными существами.
В конце концов переживание Алеши приводит его в сферу моральной неопределенности. Он хочет «простить всех и за всё» – однако он также хочет, чтобы и его простили, и за всё. Эти слова также отсылают к тому, что было главной темой поучений Зосимы, в основе которых лежит признание, сделанное на смертном одре его братом Маркелом, «что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех»,[126] и переформулированное Зосимой в наставление «сделать себя за всё и за всех ответчиком искренно» и признать себя «за всех и за вся виноватым»[127]. Эта тема Достоевского, можно сказать, является аналогом «по ту сторону добра и зла» Ницше. Позиция полного принятия всей вины указывает на момент крайней моральной пассивности, состояние, в котором я больше не могу отвечать за себя или брать на себя каким-либо образом роль представителя или совершителя добра, если мою вину не простит другой или пока он ее не простит. Однако для Маркела и Зосимы это также момент, когда собственное «я» прежде всего становится «ответчиком за всех и вся», т. е. принимает полную моральную ответственность за все свое отношение к миру – учение, которое, с явной ссылкой на Достоевского, возможно, является главным для еврейского философа Эммануэля Левинаса. С другой точки зрения, мы можем сказать, что это также приближается к платоническому и кантианскому утверждению Айрис Мёрдок, согласно которому для того, чтобы быть действительно добрыми, мы должны быть «добрыми даром», т. е. добро не имеет основания для себя – вне себя самого или, как могли бы сказать Керкегор и Достоевский, помимо того, что оно есть лучший и совершеннейший дар Бога: добро, которое, таким образом, находится «по ту сторону» добра любых расчетов обычной морали. То, во что, как мы видим, здесь посвящен Алеша, – это установка, сходная с установкой безусловного утверждения другого, выраженной в изречении Иисуса, что Бог посылает солнце светить одинаково на праведных и неправедных. Прощение, которого он ищет и которое желает дать, – это определенно прощение, которое живет в свободе отношений совершенно безвозмездного и незаслуженного дара и благодаря этой свободе. Как говорит Маркел, если бы мы могли жить с позиции такого прощения, «завтра же и стал бы на всем свете рай»[128], хотя пока мы большей частью «не хотим знать», что жизнь – это рай и мы могли бы его так легко, так свободно выбрать – выбрать, определенно отказываясь от моральных критериев, по которым мы обычно судим и судимы.
Во многих местах этой статьи акцент сделан на отношении к Богу, что не удивительно, потому что мы рассматриваем феномен молитвы. Однако неявно у Керкегора и более явно здесь, у Достоевского, мы можем видеть, что зона схождения активности и пассивности в собственном «я», которое обнаруживается в молитве, имеет важные последствия также для межличностных отношений. Собственное «я», которое отвергает желание определять себя исключительно с точки зрения своей индивидуальной свободы и становится образом Бога только в своем полном самоотвержении для Бога, также признает, что каждый другой человек – больше, чем эго, через которое мы определяем себя по отношению друг к другу; что каждый из нас, независимо от наших интеллектуальных, эмоциональных и моральных конфликтов, имеет скрытую жизнь с Богом, признаем мы это или нет. То есть такое «я» знает, что в силу своего отношения к Богу оно не столько продвигается в общество избранных духовных аристократов, сколько глубже сплачивается со всеми другими людьми. С точки зрения христианского богословия мы, возможно, пожелаем далее охарактеризовать эту солидарность как солидарность в грехе всех, для кого врата рая сейчас закрыты, и более внимательное чтение как Керкегора, так и Достоевского, я думаю, показало бы, что и это упомянуто в их сочинениях.
Если выразить одним словом то, что оба эти писателя находят в борьбе и опыте молящегося, мы можем сказать, что это любовь, в которой само существование открывается нам как глубокая тайна, и именно в этой тайне любви мы оказываемся ближе к Богу и ближе друг к другу, чем были прежде.
Эта статья началась с Канта и его знаменитого обвинения в том, что молитва ведет к моральной праздности. Предполагает ли путь, которым мы следовали, простой отказ от Канта, будет в большой степени зависеть от того, как мы понимаем Канта и, в частности, насколько мы считаем его мысль открытой по отношению к аспектам, связанным с моральной и религиозной тайной. Однако феномен молитвы позволяет нам – приглашает нас – увидеть в основной структуре познающего, морального и эмоционального «я» нечто большее, чем непосредственно предлагает кантианская модель. По мере того как мы в молитве продвигаемся к Богу и обнаруживаем, что Бог всегда был здесь, рядом с нами, если только мы это знали, мы узнаем на опыте тайну Бога не просто в смысле трансцендентности Бога по отношению ко всем мирским созерцаниям и понятиям или в смысле онтологической инаковости Бога, но и как тесно связанного с тайной нашего собственного бытия – с ударением на слове «наше». Жизнь со знанием этой тайны не означает ослабления нашего чувства морального долга по отношению к другим или ослабления обязательного стремления к добру в максимально возможной для нас мере, но эта тайна призвана насытить жизнь под знаком свободы кислородом благодарности и принятия.
Перевод с английского Олега Агаркова


