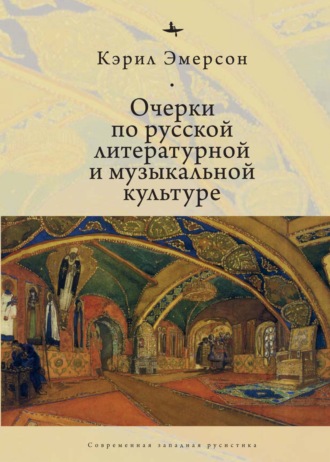
Кэрил Эмерсон
Очерки по русской литературной и музыкальной культуре
Достаточно будет привести здесь один пример, в котором рассматриваемые мною герои, пережив мрак сталинских лет, встречаются друг с другом еще раз. В 1979 году советский журнал «Литературное обозрение» в пяти выпусках опубликовал беседу за круглым столом, посвященную задачам филологии. Филология, как известно, означает любовь к слову. Но как должно выражать такую любовь? В беседе участвовали двенадцать ученых, начиная от направленных партией гуманитариев марксистско-ленинского толка, формалистов и структуралистов и заканчивая бахтинианцами. К моменту беседы прошло четыре года со смерти Бахтина. Попытки Бахтина переосмыслить формализм закончились, но пришла пора формалистов переоценить свое отношение к Бахтину. Знамя Бахтина за круглым столом нес его ученик, Вадим Кожинов[44]. Цитируя статью Бахтина 1924 года, опубликованную вскоре после его смерти в 1975 году, Кожинов утверждал, что петроградские формалисты испытывают к слову неправильную любовь[45]. Их метод основан на ошибочной концепции, путающей слово с искусством словесности. Именно поэтому формалисты обращают внимание лишь на материальный, а не на живой носитель слова. Сразу за Кожиновым, в том же выпуске, Юрий Лотман предложил доклад об ужасающем падении профессиональных стандартов в послевоенной литературной науке и об опасности практикования «облегченной филологии»: филологии без дистанции, чересчур субъективной, управляемой вкусом и проходящей модой [Лотман 1979: 48]. В последней части дискуссии, в статье под названием «Филология как нравственность», опасения Лотмана подхватил и развил Михаил Гаспаров, выдающийся филолог-классик, исследователь стиха и неоформалист [Гаспаров 1979][46]. Благодаря Гаспарову формализм, который так часто обвиняли в предпочтении бездушных приемов человеческому голосу, неожиданно приобрел нравственное превосходство как защитник человеческой индивидуальности. В следующие четверть века Гаспаров останется самым принципиальным оппонентом Бахтина.
Размышляя о формализме в свои последние годы, Бахтин признавал свою приверженность иному пониманию спецификации. Формалисты называли себя спецификаторами в том смысле, что они искали независимости литературоведения от жизни[47]. Автономия – право на самоопределение и внутренние критерии легитимизации – требует дистанции и объективного анализа. Бахтин же во всех актах обособления аналитического сознания видел насилие и отчаяние. В диалогичности Достоевского Бахтин находит эпистемологическую скромность, которая видит в точности и законченности высказывания ограничение, а не силу. Точность и обособленность исключают возможность роста и тайны, но что еще страшнее, они исключают любовь. Но чем же тогда должна быть истинная любовь к слову? В своей статье о Флобере Бахтин сожалеет о том, что современный мир знает лишь расчлененное сознание [Бахтин 5: 137]. Натуралистический анализ похож на вивисекцию.
Однако, как я пыталась показать в данной статье, существуют альтернативные точки зрения, настаивающие на том, что диалог может быть еще более опасной процедурой. Например, Гаспаров утверждал, что у исследователей всегда есть масса путей уничтожить жизнь[48]. На его взгляд, акт отдаления вернее помогает сохранить жизнь, чем акт близости, который норовит впитать другого в себя, в свои нужды и в свою нынешнюю ситуацию. Таким образом, неоформалист и моралист Гаспаров настаивает, что бахтинский метод, со своим навязчивым поиском жизненного синтеза, на самом деле только создает эгоцентричных, самодовольно пялящихся на самих себя в зеркало ученых и читателей.
Я завершаю свою статью этим серьезным обвинением в эгоцентризме одного из величайших философов диалогического слова двадцатого века. В конце лишь замечу, что метафизическое разногласие Бахтина с формалистами всегда будет глубже, тоньше и сложнее, чем может нам показать сравнение их методологий.
2017
Литература
Бахтин – Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Русские словари; Языки славянских культур, 1997–2012.
Бахтин 1975 – Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.
Вахтель 2017 – Вахтель М. «Филология как нравственность» в историческом контексте // М. Л. Гаспаров. О нем. Для него / Под ред. М. Акимовой, М. Тарлинской. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 462–480.
Гаспаров 1979 – Гаспаров М. Филология как нравственность //Литературное обозрение. 1979. № 9. С. 26–27.
Гаспаров 2004 – Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: Случай Бахтина // Вестник гуманитарной науки. 2004. № 6 (78). С. 94–99.
Лотман 1979 – Лотман Ю. «Этот трудный текст…» // Литературное обозрение. 1979. № 3. С. 47–48.
Лотман 1992 – Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
Лотман 1997 – Лотман Ю. М. Письма 1940–1993 / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Б. Ф. Егорова. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
Случайность 2013 – Случайность и непредсказуемость в истории культуры: Мат-лы Вторых Лотмановских дней в Таллиннском университете (4–6 июня 2010 года) / Под. ред. И. А. Пильщикова. Таллинн: Изд-во ТЛУ, 2013.
Формализм 2013 – Русский формализм (1913–2013): Международный конгресс к 100-летию русской формальной школы. Москва, 25–29 августа 2013 года: Тезисы докладов / Под ред. И. А. Пильщикова, М. А. Якобидзе. М.: Институт славяноведения РАН, 2013.
Чудаков 1979 – Чудаков А. Нужны новые категории // Литературное обозрение. 1979. № 7. С. 38–40.
Эмерсон 2006 – Эмерсон К. Двадцать пять лет спустя: Гаспаров о Бахтине // Вопросы литературы. 2006. № 2. С. 12–47.
Bakhtin 2014 – Bakhtin М. М. Bakhtin on Shakespeare: Excerpt from “Additions and Changes to Rabelais” I TransL by S. Sandler // Publications of the Modern Language Association of America. 2014. Vol. 129. No. 3. P. 522–537.
Denischenko 2012 – Denischenko I. The Reifying Forces of Cognition: Mikhail Bakhtin’s Reflections on Violence. Masters Thesis. S. L: Columbia University, 2012.
Denischenko 2017 – Denischenko I. Beyond Reification: Mikhail Bakhtins Critique of Violence in Cognition and Representation // Slavic and East European Journal. 2017. Vol. 61. № 2: Bakhtin Forum: The Dark and Radiant Bakhtin. Wartime Notes. P. 255–277.
Emerson 2007 – Emerson C. In Honor of Mikhail Gasparovs QuarterCentury of Not Liking Bakhtin: Pro and Contra // Poetics. Self. Place: Essays in Honor of Anna Lisa Crone I Ed. by C. O’Niel, N. Boudreau, S. Krive. Columbus, Ohio: Slavica, 2007. P. 26–49.
Jakobson, Jones 1987 – Jakobson R., Jones L. G. Shakespeare’s Verbal Art in “Th’ Expence of Spirit” // Jakobson R. Language in Literature I Ed. by K. Pomorska, S. Rudy. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1987. P. 198–215.
Lotman 2013 – Lotman J. M. The Unpredictable Workings of Culture I Transl. by B. J. Baer, ed. by I. Pilshchikov, S. Salupere. Tallinn: TLU Press, 2013.
Radunovic 2015 – Radunovic D. On “Secondary Aesthetics, without isolation”: Philosophical origins of Mikhail Bakhtin’s Theory of Form // Slavic and East European Journal. 2015. Vol. 59. № 1. P. 1–22.
Sandomirskaia 2017 – Sandomirskaia I. Bakhtin in Bits and Pieces: Poetic Scholarship, Exilic Theory, and a Close Reading of The Disaster // Slavic and East European Journal. Vol. 61. № 2: Bakhtin Forum: The Dark and Radiant Bakhtin. Wartime Notes. P. 278–298.
Spektor 2017 – Spektor A. In Search of the Human: Mikhail Bakhtin’s Wartime Notebooks // Slavic and East European Journal. 2017. Vol. 61 № 2: Bakhtin Forum: The Dark and Radiant Bakhtin. Wartime Notes. P. 233–254.
Stone 2008 – Stone J. Polyphony and the Atomic Age: Bakhtin’s Assimilation of an Einsteinian Universe // Publications of the Modern Language Association of America. 2008. Vol. 123. № 2. P. 405–421.
Vendler 1973 – Vendler H. Jakobson, Richards, and Shakespeare’s Sonnet CXXIX U I. A. Richards: Essays in his Honor I Ed. by R. Brower, H. Vendler, J. Hollander. New York: Oxford University Press, 1973. P. 179–198.
3. Двадцать пять лет спустя: Гаспаров о Бахтине1
В начале сентября 2005 года русская и английская версии этого эссе были отправлены М. Л. Гаспарову Уже дома, приходивший в себя после лечения, оказавшегося последним, Михаил Леонович был настолько любезен, что прочел текст и откликнулся на него в начале октября, сделав несколько небольших исправлений относительно античного термина «серьезно-смеховое». Со своей обычной галантностью он лишь попросил меня смягчить «некоторые Ваши сверхпохвальные выражения обо мне» (чего я не выполнила), при этом дав понять, что он удовлетворен и тем, как его позиция представлена мной, и самим эссе. Полагаясь на это свидетельство, я посвящаю эссе его памяти. – К. Э.
Многие отечественные философы и теоретики выступали в советское время в роли филологов. Искажение идентификации сказывается как на их собственном творчестве, так и на понимании их идей, концепций и конкретных научных результатов.
Н. В. Брагинская [Брагинская 2004: 73]
За последнюю четверть века в индустрии Бахтина многое изменилось – но кое-что осталось точно таким же, каким было с самого начала. Не изменилось, среди прочего, и отношение к Михаилу Бахтину со стороны Михаила Гаспарова. [49]
Репутация Гаспарова очень высока среди американских славистов – и как ученого мирового класса, и как строгого аналитика с неистребимым чувством юмора, и как мемуариста, одновременно проницательного и шутливого, наконец, как философа гуманитарных наук (хотя он, вероятно, не принял бы для себя такого определения), ставящего выше всего ясность мысли и здравый смысл.
Из всех ученых, критиков и чудаков, высказывавших свои возражения Бахтину на первом этапе запоздалого открытия этого имени в России и на Западе и потом, когда начался бум, – Гаспаров был и остался самым принципиальным оппонентом. Говоря «принципиальным», я имею в виду вот что: когда Гаспаров высказывается, например, против практики вузовского преподавания или же против научного мировоззрения, то это потому, что он противопоставляет как первому, так и второму ряд систематически продуманных принципов, не менее последовательных, логически строгих и безусловных по своему ценностному весу, чем логика бахтинской мысли. Исследователи Бахтина, к сожалению, склонны в большинстве своем либо с ходу отвергать, либо просто игнорировать гаспаровскую критику. Полагаю, что это – ошибка. В предлагаемой статье будет сделана попытка рассмотреть напряжение, возникшее между сторонниками Бахтина и сторонниками Гаспарова, в определенном контексте и межкультурной перспективе.
* * *
Гаспаров открыл дискуссию в 1979 году – четверть века назад – в публикациях Тартуской школы [Гаспаров 1997][50]. А совсем недавно, в ноябре 2004 года, он продолжил ее в Москве [Гаспаров 2004]. Между этими двумя выступлениями Гаспаров неоднократно выражал и варьировал свою научную позицию в статьях о филологии и многочисленных записях мемуарного характера.
Следует подчеркнуть, что «диалог» между Гаспаровым и Бахтиным – особого рода. Ведь он начался тогда, когда жизненный путь одного из участников уже закончился: Бахтин не мог больше ни пояснить свою позицию, ни возразить на возражения Гаспарова. Ученики и последователи Бахтина стали отвечать вместо него как бы от его имени. Лишь недавно, после того, как к Бахтину на протяжении десятилетий кто только не обращался и как только его не «присваивал», определились и выделились настоящие его исследователи в России и среди историков идей на Западе. Эти немногие начали по частям, буквально по кусочкам собирать то, что когда-то и как-то было связано с этим именем – то есть с Бахтиным-мыслителем, когда он был жив. Вот что, пожалуй, самое примечательное в растянувшейся на десятилетия односторонней полемике Гаспарова: с годами неприятие оппонента становилось у него все радикальнее и многословнее, однако это не всегда было на пользу дискуссии. Самые первые возражения, выдвинутые Гаспаровым в конце 1970-х годов, – например, когда он сблизил Бахтина с формалистами, как «человека двадцатых годов», разделявшего определенные слабости современных ему радикальных литературно-критических школ, – были, в общем и целом, проницательнее и взвешеннее прозвучавших недавно.
Гаспаров, отстаивая свою правду, пожалуй, возразит нам в том смысле, что бахтинские трюизмы решительно победили на мировом рынке и нанесли куда больше вреда научной филологии, чем это можно было предвидеть в 1979 году; поэтому те, кто не согласен с Бахтиным – а среди последних голос Гаспарова едва ли не самый знаменитый, – должны высказаться еще более откровенно, принципиально и нелицеприятно.
Нужно признаться, что причина расхождения с Бахтиным коренится в значительной мере в характере восприятия бахтинских идей, особенно – в крайнем огрублении Бахтина на Западе, которое питалось неомарксизмом, французским неофрейдизмом и сценариями власти у Фуко. Философия, открывшая взрывной потенциал языка, с большим энтузиазмом была встречена на Западе в эпоху политического радикализма 1960-1970-х годов. Бахтин очень удивился бы всему этому – Гаспаров, как можно предположить, ужаснулся. Упомянутый аргумент Гаспарова из статьи 1979 года – что Бахтина можно записать в один лагерь с петроградскими формалистами, коль скоро у него и у них обнаруживается один и тот же набор методологических грехов, – был, как это ни странно, на свой лад здравым и справедливым, если смотреть извне, с пространственной и временной дистанции. Ведь на Западе предполагалось как нечто само собой разумеющееся, что «русская теория» – подрывная и революционная.
Во всяком случае, методологический разрыв между теми, кому ближе Бахтин, и теми, кто следует за Гаспаровым, сейчас, четверть века спустя, обнажился полностью – настолько, что разрыв этот может рассматриваться как некая предельная граница, по обе стороны которой – два диаметрально противоположных подхода к гуманитарно-филологическому познанию вообще, со всеми обретениями и утратами каждого из этих подходов. Граница эта, однако, не является ни устойчивой, ни статичной, потому что Гаспаров – парадоксальный и равнодостойный оппонент Бахтина. Каким бы «консерватором» ни слыл Гаспаров, в нем есть что-то от «академика-еретика» – определение, которое дали ему восхищающиеся им авторы из журнала «НЛО» в 2005 году, по случаю его 70-летия[51]. Мастер во многих различных областях и жанрах, Гаспаров требует «укрощения исследовательского своеволия во имя “самого объекта”» [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005:170], а между тем его собственный метод (и предпочитаемые учителя) – эксцентричны: они – продукт официальной, но маргинальной, неканонической, почти забытой критической мысли 1920-х годов. «У кого учились? – спросил Гаспарова коллега. – У книг» [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005: 172]. Гаспаров не основал какой-либо школы. Авторы цитируемой статьи, задаваясь вопросом, какой классификационной рубрике соответствует их филолог-еретик, спрашивают: «Традиция филологическая – в чем она состоит? <…> И еще: что мы наследуем (или выбираем, что наследовать) от предшественников: сам предмет исследования, отношение к предмету, методологию? Или само отношение к методологии?» [Дмитриев, Кукулин, Майофис 2005: 170].
Поставим теперь вопросы еще более фундаментальные, чем те, которые поставили авторы цитируемой статьи. Что такое филология? Что такое наука и «научность» в гуманитарно-филологической деятельности? Каков статус выживания следов культуры (книги, фрагмента, легенды, артефакта)? Существуют ли разумные пределы использования или обработки критиком, от своего имени, такого культурного следа? Что значит «вступить в контакт» с другой культурой, в особенности с такой, которая отличается от нашей культуры временем, пространством, языком и местом обитания? Может ли творческое сознание, захваченное словом, позднее зажить новой активной жизнью в сознании воспринимающего таким образом, чтобы жить вечно? Можно ли принять всерьез притязания Бахтина, заключенные в полифоническом методе, – что это не только метод создания другой личности, но что вымышленный герой посредством такого метода может, как личность, развиваться сам по себе и даже оказывать обратное влияние на своего автора? Или эти притязания просто еще одна глава в призрачной истории исканий русской философии – исканий, цель которых – отменить смерть?
Ответы на эти вопросы даются самые разные сторонниками и оппонентами как Гаспарова, так и Бахтина.
Например, Нина Брагинская, автор недавней статьи «Славянское возрождение античности», цитата из которой взята нами в качестве эпиграфа, считает, что Лев Пумпянский и Бахтин поддались чарам телеологически-эволюционистской идеи «Третьего Возрождения», получившей широкое распространение в начале XX века: в ту эпоху многие были одержимы стремлением увидеть литературные жанры и религиозные откровения древних непосредственно соотнесенными с русской культурой, какими бы сомнительными, а то и вовсе несуществующими ни были параллели такого рода. Поэтому и романы Достоевского старались осмыслить и объяснить сперва – как греческую трагедию, потом – как неудачу или гибрид греческих трагедий, наконец (Бахтин) – как возрожденную мениппею [Брагинская 2004: 67–71, 61–62][52]. Страстное желание увидеть и оправдать русскую литературу в явлениях и терминах античности продолжалось вплоть до 1930-х годов, а у Бахтина и того дольше, вплоть до начала 1960-х годов, когда было опубликовано второе издание книги о Достоевском, а в нем – четвертая глава (о мениппее). Брагинская полагает, что навязчивая идея утвердить «нашу античность» – это русский тупик: «Не ученое и остраняющее отношение, а заинтересованное и присваивающее». В примечании к этому высказыванию Брагинская ссылается на статью Гаспарова о Бахтине 1979 года, считая Гаспарова своим союзником.
Ссылка Брагинской на ту первую статью говорит сама за себя: Бахтин послужил Гаспарову своего рода зеркалом всего того, от чего он, Гаспаров, отталкивается; под этим углом зрения он подверг испытанию и довел до еще большей ясности и остроты глубоко укоренившиеся в нем убеждения. Причем не только те убеждения, которые относятся к его пониманию филологии и науки вообще, но и такие, область которых – онтология, творчество, нравственность, личный интимный опыт и «диалог»; я бы добавила к этому такую важную бинарную оппозицию русской религиозной мысли, как противопоставление «прелести» (в данном случае – философской) и «трезвости» (научной).
Несмотря на то что гуманитарные дисциплины (the humanities) не являются точной наукой (science) и в наших парадигмах не происходит «научных революций», тем не менее термины и метафоры, которыми мы пользуемся, и вправду ведь могут оказывать на нас притупляющее и развращающее действие. Но прав ли Гаспаров, полагая, что мы, в качестве исследователей-гуманитариев, потеряли трезвость и введены в заблуждение приоритетами Бахтина?
Мне лично представляется, что учиненный Гаспаровым Бахтину допрос с пристрастием – в своем роде здоровый корректив к бахтиноведческим исследованиям: в них на самом деле немало преувеличений, гипербол, неточностей, поверхностного применения теоретических утверждений и обобщений, в которых еще очень надо разбираться. И в этом смысле М. Л. оказывается союзником Бахтина: оба они, каждый по-своему, предупреждают нас об опасности эгоцентризма, свойственного как искусству словесно-художественного творчества, так и искусству критики, и побуждают к осмотрительности, к тому, чтобы сохранять дистанцию по отношению к объекту изучения. Во всяком случае, как в отношении художественного творчества, так и в отношении критики взгляд «со стороны» – куда более надежный исходный пункт для обретения достоверного знания в гуманитарных науках, чем взгляд «изнутри вовне». Делая академическую скромность и трезвость своим фирменным знаком, Гаспаров напоминает нам о строгих обязанностях служения литературной науке и литературной критике – обязанностях, чуждых многим романтическим и постмодернистским критикам.
Но, с другой стороны, невозможно не принять во внимание и реакцию противоположной стороны. Я заметила, что нет такого русского (или родившегося в России) исследователя наследия Бахтина – а у меня была возможность побеседовать и обсудить дело со специалистами самого высокого уровня, – который бы отнесся к упомянутым выступлениям Гаспарова иначе, чем с крайним неодобрением, расценивая их как намеренное и злостное искажение. Заинтересовавшись, я перечитала у Гаспарова все, что могло дать повод для такой единодушной реакции. Признаюсь: кое-что я действительно нашла.
Доминирующий мотив неприятия – твердая приверженность Гаспарова к проникнутому секуляризацией и иронией принципу «недоверия к слову»[53]. Такое принципиальное недоверие – Гаспаров говорил об этом еще в 1979 году – необходимо филологии: оно «отучает человека от духовного эгоцентризма», довольно естественного в гуманитарных исследованиях, и побуждает нас, напротив, к здравой объективной онтологии, а потому – и к подлинному филологическому исследованию. С точки зрения Гаспарова, нравственность филологии заключается как раз в добродетелях объективности и дистанции, то есть в осознании того, что письменный артефакт, который я в данный момент анализирую, в свое время обращался не ко мне и обращался не на моем языке; что он, следовательно, безразличен к моим ценностям и не должен истолковываться с опорой на мои личные потребности или нужды.
Интересно заметить, что и Гаспаров, и Бахтин оба высоко ценят «вненаходимость» исследователя по отношению к предмету исследования, но оценивают и методически используют они эту вненаходимость совершенно по-разному. Возражая Бахтину, Гаспаров следует древней и очень почтенной традиции. А неадекватно представляя Бахтина, М. Л. как раз более оригинален.
В этой статье меня интересуют в основном два гаспаровских возражения Бахтину и, соответственно, два возможных опровержения этих возражений. Одно возражение имеет для Гаспарова принципиальный характер: он не принимает понятия «диалог», как и родственного ему понятия «полифонии», в качестве полезных и соответствующих делу филологии инструментов литературного анализа. Второе его возражение Бахтину – методологическое: оно направлено против одной из бахтинских новаций в области исторической поэтики – против «мениппеи», в которой Гаспаров усматривает особенно характерный пример пристрастия Бахтина к извлечениям и фрагментам, то есть, собственно, – произвол «философа», подменяющего предмет филологии беспредметными фикциями, лишенными научно доказательной силы. В этой связи поучительно сравнить гаспаровскую полемику с некоторыми дискуссиями в американском академическом мире.
В американском контексте (начиная с 1960-х годов) на одной стороне оказались формалисты-позитивисты – «литературоведы», представители более традиционной «истории литературы» (old historicists), для которых главное в литературе – это текст. Они стоят на том, что прошлое принадлежит только прошлому, то есть соотносится только с собою же, и мы должны служить такому равному себе прошлому на его собственных условиях и основаниях, храня верность неподвластным времени шедеврам. Ибо наши предшественники, какими бы ни были созданные ими ценности, творили отнюдь не ради нас и не имели в виду наших сегодняшних ценностей. Такую позицию, распространенную в университетах как американских, так и европейских, можно назвать «гаспаровизмом» (Gasparovism)[54].
На другой стороне, оппонирующей «гаспаровизму» у нас в США, – «постмодернисты», последователи «нового историзма». Вслед за своим лидером, Стивеном Гринблаттом, сторонники этого литературно-критического направления уделяют основное внимание контексту, в который входит литературный текст. Они утверждают, что прошлое «резонирует», то есть является не столько источником информации, сколько источником удивления, чуда истории. И мы можем активно войти в это чудо, в историческое измерение, благодаря феномену литературы, магия которой представляет собой «сверхъестественную способность создавать видимость того, что написано это <…> для нас» [Greenblatt 1997: 481].
Бахтин и Гринблатт, конечно, странная пара: два человека разных поколений, разной специализации, разных теоретических интересов и пристрастий, наконец, разных темпераментов. Больше того: объективная ирония этой моей статьи заключается, среди прочего, в том, что весь человеческий и научный склад русского мыслителя Бахтина (погруженного в книги со страстным желанием «мысль разрешить», что, впрочем, не мешало ему быть блестящим преподавателем-традиционалистом) гораздо больше напоминает как раз его оппонента Гаспарова, чем нашего Гринблатта, который является отчасти даже как бы учеником Бахтина. Если Бахтин не дожил до расцвета «индустрии Бахтина» и ему не пришлось за нее отвечать, то Гринблатт (для которого Бахтин был, по его словам, «одной из мощных интеллектуальных встреч», повлиявших на его критическую деятельность[55]) на протяжении десятилетий уверенно выстраивал свой имидж, достойно парируя удары враждебных критиков. И тем не менее рецепция Бахтина и Гринблатта, похоже, развивалась по одной и той же схеме.
В самом деле: Гринблатт тоже был культовой фигурой в США в 1980-х годах. Инициированный им «новый историзм» не поддается точному определению, но он привлек к себе почти всеобщее внимание (подобно неточному, но привлекательному «диалогизму» и «карнавалу» у Бахтина), потому что везде и всюду в воздухе носились ожидания новой методологии. Все искали тогда некую небывалую литературно-критическую модель, которая радикально по-новому сумела бы связать контекст и текст, части и целое; искали модель, которая позволила бы заново определить культурный артефакт – и, соответственно, освободить его от каузального ряда истории; модель, способную продемонстрировать, с одной стороны, поистине безграничные творческие возможности критика, а с другой – теоретическую непритязательность, безыскусственность той маски, за которой критик скрывает свое лицо; продемонстрировать одновременно и хитроумную изобретательность микропрочтений, и смелость макрогенерализаций.
Неудивительно поэтому, что доводы Гаспарова против Бахтина имеют много общего с теми аргументами, которые были выдвинуты против «нового историзма» в США примерно в то же самое время. Благодаря эрудиции, харизме и литературному мастерству Гринблатта возглавляемое им движение получило широчайшее распространение и стало восприниматься как настоящий слом парадигмы – вызвав, разумеется, впечатляющую реакцию возмущения со стороны выдающихся литературоведов и критиков гаспаровского типа. Оппоненты Гринблатта напечатали свои возражения против предложенной им практики литературно-критического исследования в известных журналах[56].
Я упоминаю об этом здесь для того, чтобы сопоставить научную позицию Гаспарова с другими, равнодостойными этой позиции, аргументами. Если различия между двумя великими русскими учеными, Бахтиным и Гаспаровым, попытаться обнаружить и вскрыть по ту сторону полемики между ними, то, возможно, интересующий меня «диалог» переместится из «малого» в «большое» время. Впрочем, диалог ли это?
Автор и герой в академической деятельности: искажающие маски диалога
Гаспаров, конечно, с ходу отверг бы самую мысль о том, что его связывают с Бахтиным какие-то там диалогические отношения. Идея «диалога» не может не казаться ему таким же нелепым заблуждением, как и родственная этой идее фикция о вымышленных созданиях художественной прозы, которые якобы могут по собственной инициативе «вступать в общение» друг с другом или (как этого требует замысел полифонического романа) со своим же автором-творцом. Гаспаров скажет примерно так: ни о каком диалоге не может быть и речи, потому что Бахтин и его мир – мертвы. Филология, которая началась как изучение древних, давным-давно исчезнувших культур и языков, осознает этот факт и ограничивает свои притязания более скромными задачами восстановления подлинности текстов и адекватного, точного их комментирования. Филологи не участвуют в «разговоре между эпохами».
В этой своей части аргументация Гаспарова опирается на древние и почтенные авторитеты. Представление о том, что диалогическая форма, в особенности сохранившаяся в письменном виде, – это фикция, мошенническая уловка рефлексии в отношении прежней жизни, которая не может снова стать живой, нашло свое классическое выражение в конце платоновского диалога «Федр». Сократ утверждает там, что слова, запечатленные на письме, – мертвые слова: они совершенно бессильны постоять за себя и отстоять себя перед аудиторией какой-либо последующей эпохи, они лишены всяких прав перед будущими адресатами. Про слова, которые сохранились благодаря изобретению письма, «думаешь, будто они говорят, как разумные существа», но на самом деле они всегда больше похожи на образ, запечатленный на стене, чем на живой разговор; «если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же» [Платон 1993: 187].
Сократ полагает, что письмо и чтение, свойство которых – молчаливое восприятие в отсутствие телесно определенного говорящего, могут только ослабить или даже вовсе устранить реальность другого. А если другой лишен живого слова и телесной реальности и тем самым стал безответным, пассивным письменным словом, то тогда одно только всесильное «я» в грамматическом (и не только грамматическом) настоящем времени может привести в движение и организовать все голоса диалога.
Гаспаров в течение многих лет применял убийственный скепсис «Федра» к литературной критике. Гуманитарии, утверждает он, сильно заблуждаются насчет «интимного отношения», которое якобы связывает их с объектом изучения. То обстоятельство, что мы, филологи, работаем не с неодушевленными объектами, а с сознанием, которого больше нет, должно сделать нас более (а не менее) осторожными. В небольшой полемической заметке, озаглавленной «Примечание псевдофилософское», Гаспаров настаивает даже, что «зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы» к предметам филологического изучения [Гаспаров 2001: 101]. И в этом есть своя несомненная правда. Человеческое сознание как предмет изучения требует не «интимного», а куда более тонкого и деликатного отношения, требует известной уважительной дистанции, не лишенной благоговения. «Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания; можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог: это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? – вот в чем должен он дать отчет, если он человек науки» [Гаспаров 2001: 101].


