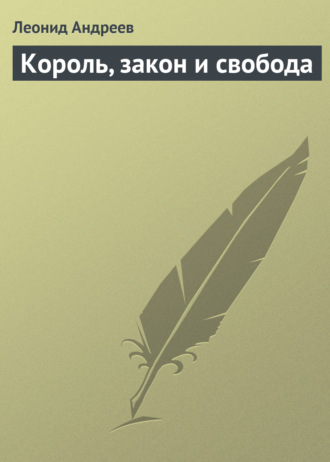
Леонид Андреев
Король, закон и свобода
Граф Клермон. Я не смею вас утешать, мадам Грелье. Дайте мне вашу руку, Морис.
Морис. О… граф! Я только солдат, я не смею…
Граф Клермон. И я, дорогой мой, теперь только солдат. Руку, товарищ. Вот так. Учитель! – мои дети и жена прислали вам цветы… Но где же они? О, какой я рассеянный!
Жанна. Вот, граф.
Граф. Благодарю вас, мадам. Но я не знал, что у вас цветы лучше моих, а мои… они так пропахли дымом и гарью!
Лагард. Как и вся Бельгия. (Графу Клермону.) Пульс хороший. – Грелье, мы приехали к вам не только за тем, чтобы выразить вам наше сочувствие, – в моем лице рабочие всей Бельгии жмут вашу руку…
Эмиль Грелье. Я горжусь, Лагард.
Лагард. Ну и мы гордимся не меньше. Да, нам надо поговорить. Граф Клермон не решался вас беспокоить, но я сказал: пусть умрет, но раньше мы с ним поговорим – э, не так ли, товарищ?
Эмиль Грелье. Я не умру. Морис, тебе лучше выйти.
Граф Клермон (быстро). О нет, нет. Он ваш сын, Грелье, и он должен присутствовать при том, что скажет его отец. О, я гордился бы честью иметь такого отца!
Лагард. Наш граф очень славный молодой человек. Простите, граф, я опять несколько нарушаю…
Граф Клермон. Ничего, я уже привык. Сегодня вам и вашей семье, дорогой учитель, необходимо переехать в Антверпен.
Эмиль Грелье. Наши дела так плохи?
Граф Клермон. Скажите ему, Лагард.
Лагард. Что же говорить! Плохи, да – очень плохи. Это орда гуннов идет на нас, как морской прилив. Сегодня они еще там, а завтра они зальют ваш дом, Грелье. Они идут к Антверпену. Что мы можем им противопоставить? Отсюда они, а там море – от Бельгии уже немного осталось, Грелье. Скоро моей бороде негде будет поместиться. Не так ли, мол… граф?
Молчание. Издали приносятся глухие звуки канонады; все обращают взоры к окну.
Эмиль Грелье. Это сражение?
Граф Клермон (прислушиваясь, спокойно). Нет, это случайно. Пристреливаются. Но уже завтра они повезут мимо вас, Грелье, свои дьявольские орудия. Вы знаете, это – настоящие железные чудовища, под тяжестью которых содрогается и стонет наша земля. Они движутся медленно, как амфибии, выползшие ночью из пучины – но они движутся! Пройдет еще несколько дней, и они подползут к Антверпену, они на город, на церкви обратят свои пасти… Горе Бельгии, учитель, горе!
Лагард. Да, очень плохо. Мы честный и мирный народ, который ненавидит пролитие крови – ведь этакая глупость: война! И мы уже давно не имели бы ни одного солдата, если бы не это проклятое соседство, не это разбойничье баронское гнездо…
Генерал. А что бы мы делали без солдат, мосье Лагард?
Лагард. А что мы можем сделать и с солдатами, мосье генерал?
Граф Клермон. Вы неправы, Лагард. С нашей маленькой армией у нас есть еще одна возможность: погибнуть, как гибнут свободные. А без нее – мы уже были бы чистильщиками сапог, Лагард!
Лагард (ворчит). Ну, я-то никому не стану чистить сапоги. Плохо дело, Грелье, плохо. И осталось у нас одно только средство… Правда, довольно страшное средство…
Эмиль Грелье. Я знаю.
Лагард. Да? Какое же?
Эмиль Грелье. Плотины.
Жанна и Эмиль вздрагивают и с ужасом смотрят.
Граф Клермон. Вы вздрогнули, вы дрожите, мадам! А что же делать мне, что же делать нам, которые не смеют дрожать!
Жанна. Нет, я так. Я подумала о девушке, которая ищет дорогу к Лонуа. Никогда ей не найти дорогу к Лонуа!
Граф Клермон. Но что же делать! Что же делать!
Все задумались. Граф Клермон отошел к окну и смотрит, нервно пощипывая усы; Морис отодвинулся в сторону и по-прежнему стоит навытяжку; невдалеке от него, опираясь плечом о стену и закинув красивую, бледную голову, стоит Жанна. Лагард по-прежнему сидит у постели, поглаживая седую, всклоченную бороду. Мрачно задумался генерал.
(Решительно обернувшись.) Я – мирный человек, но я понимаю, что можно поднять оружие. Оружие! Это значит меч, это ружье, это разрывные снаряды… это, наконец, огонь! Огонь убивает, но он и светит, огонь очищает, в нем есть нечто от древнего жертвоприношения. Но вода! – холодная, темная, молчаливая, обволакивающая тиной, раздувающая трупы… Вода, которая есть начало хаоса, вода, которая день и ночь сторожит землю, чтобы броситься на нее… Друзья мои, поверьте мне: я довольно смелый человек, но я боюсь воды! Лагард, что вы скажете на это?
Лагард. Мы, бельгийцы, слишком долго боролись с водой, чтобы не научиться страху. Я тоже боюсь воды.
Жанна. Но кто страшнее: пруссаки или вода?
Генерал (кланяясь.) Мадам права: они не страшнее, но хуже.
Лагард. Да. У нас нет другого выбора. Страшно выпускать воду из плена, зверя из логовища, но все же она нам больше друг, чем пруссаки. Черт возьми, ведь плавал же Ной[5], когда пришлось… простите, граф. И я предпочту, чтобы всю Бельгию с головой покрыло море, чем протянуть руку примирения негодяю! До этого ни он, ни мы не доживем, хотя бы сам Атлантический океан ринулся на нас!
Короткое молчание.
Генерал. Но до этого мы не дойдем, надеюсь. Пока нам необходимо затопить только часть территории, это не так страшно.
Жанна (закинув голову, с закрытыми глазами). А что будет с теми, которые не захотят покинуть своих жилищ – которые глухи, которые больны и одиноки? Что будет с нашими детьми?
Молчание.
Там, на полях и в оврагах, есть раненые; там бродят тени людей, но в жилах их еще течет кровь – что будет с ними? О, не смотри на меня так, Эмиль, лучше не надо слушать, что я говорю. Я только потому, что у меня вдруг заболело сердце… и меня вовсе не надо слушать, граф.
Граф Клермон быстро и решительно подходит к постели Грелье, вначале говорит, смущаясь, приискивая слова, но дальше все смелее и громче.
Граф Клермон (смущаясь). Дорогой и уважаемый учитель! Мы не осмеливались бы отнимать у вас хотя бы крупицу вашего здоровья, если бы… если бы не уверенность в том, что служение народу может дать только новые силы вашей… героической душе! Уже вчера на нашем совете было решено взорвать плотины и затопить часть королевства, но я не мог, я не смел дать полного согласия, пока не выслушаю вас. Всю ночь я не спал и думал – о, как страшны, как невыразимо печальны были мои мысли! Мы все, и он и я, мы тело, мы руки, мы голова, а вы, Эмиль Грелье, – вы совесть нашего народа. Ослепленные войной, мы можем невольно, совсем нечаянно, совсем против нашего желания нарушить заветы человечности – пусть ваше строгое сердце скажет нам правду. Друг мой! Мы доведены до отчаяния, у нас нет Бельгии, Она затоптана врагами, но в вашей груди, Эмиль Грелье, бьется сердце всей Бельгии – и ваш ответ будет ответом самой нашей измученной… окровавленной… несчастной страны!
Отворачивается к окну. Морис плачет, глядя на отца.
Лагард (тихо). Браво, Бельгия!
Молчание. Слышна канонада.
Жанна (Морису тихо). Сядь, Морис, тебе нехорошо стоять.
Морис. О мама! Мне такое наслаждение сейчас стоять… о мама!
Лагард. Теперь и я добавлю несколько слов. Как вам известно, Грелье, я человек из народа. Да, это верно. И я знаю, чего стоит народу его труд, чего стоят все эти огороды, сады и фабрики, которые мы похороним под водой. Это стоит нам пота, Грелье, здоровья и слез. Это наши страдания, которые обратятся в радость для наших детей. Но как народ, который выше пота своего, крови и слез уважает и любит свободу, – как народ, говорю – я предпочту, чтобы здесь над головами нашими ходили морские волны, нежели чистить сапоги пруссаку! И пусть от Бельгии останутся только острова, они назовутся «Честными островами», а островитяне будут по-прежнему бельгийцы!
Все в волнении.
Эмиль Грелье. А что говорят инженеры?
Генерал (почтительно выждав ответа молчавшего графа). Они говорят, мосье Грелье, что это может быть сделано в два часа.
Лагард (ворчит). В два часа! В два часа! А строили сколько лет?
Генерал. Инженеры плакали, говоря это, мосье Грелье.
Лагард. Инженеры плакали… Да как и не заплакать, подумайте сами, Грелье?
Внезапно всхлипывает и не торопясь лезет в карман за платком.
Граф Клермон. Мы с волнением ждем, Грелье. На вас тяжкий долг перед родиной вашей – поднять на нее руку.
Эмиль Грелье. А иной защиты у нас нет?
Молчание. Все в позах тяжелого раздумья; Лагард откровенно вытирает глаза и неторопливо, со вздохом, роняет ответ.
Лагард. Нет.
Генерал. Нет!
Жанна (качнув бледной головой). Нет.
Граф Клермон (быстро). Нам необходимо выиграть время, Грелье. Силою всех наших жизней, брошенных в поле, мы не можем их остановить (топнув ногой). Время, время, – нам необходимо украсть у судьбы частицу ее вечности, несколько дней, неделю! К нам спешат! Уже идут с востока русские. Уже до самого сердца французской земли проникла немецкая сталь… и в ярости от боли уже поднимается над немецкими штыками французский орел и к нам направляет полет! Уже стремятся к нам благородные рыцари моря, британцы, и к Бельгии через пучину протянуты их мощные руки… но время! время! Дайте нам времени, Грелье, – о нескольких днях, о часах молит нас Бельгия! Вы уже отдали ей свою кровь, Грелье, и вы имеете право поднять на родину вашу окровавленную руку!
Короткое молчание.
Эмиль Грелье. Плотины надо разрушить.
Занавес
Пятая картина
Время к ночи. Небольшой сельский домик, занятый германским штабом. У двери, которая ведет в помещение командующего армией, застывший часовой. В этой комнате все двери и окна открыты, за ними тьма. Освещена комната довольно ярко свечами. Два дежурных штаб-офицера лениво переговариваются, страдают от духоты. Лагерь спит; лишь изредка тяжелые размеренные шаги сменяемых пикетов и частей, сдержанные голоса, ругательства. Где-то в доме гудит динамо беспроволочного телеграфа.
Фон-Ритцау. Вы хотите спать, фон-Штейн?
Фон-Штейн. Спать – нет, курить – да.
Ритцау. Вредная привычка! Но вы можете покурить в окно.
Штейн. А если он войдет? Благодарю вас, фон-Ритцау. О, какая душная ночь, в легкие не попадает и капли чистого воздуха. Он весь отравлен гарью. Надо что-нибудь изобрести против гари, займитесь этим, Ритцау.
Ритцау. Я не изобретатель. Но сперва этот воздух надо выжать, как грязное белье, и высушить на солнце. Он мокр так, точно мы плывем под водой. Вы не знаете: он в хорошем настроении сегодня?
Штейн. А разве у него бывают настроения хорошие или плохие?
Ритцау. Колоссальная выдержка!
Штейн. Вы видели когда-нибудь его раздетым… ну полуодетым? Или чтобы волосы его не лежали, как на параде? Гениальный старик!
Ритцау. Он дьявольски мало говорит, Штейн.
Штейн. Он предпочитает, чтобы говорили его пушки. Это довольно сильный голос, не так ли, Ритцау?
Тихо смеются. Быстро входит высокий, красивый штаб-офицер и направляется к двери командующего.
Постойте, Блюменфельд! Новости?
Высокий отмахивается рукой и осторожно открывает дверь, заранее наклонившись для поклона. Делает карьеру!
Ритцау. Нет, он хороший парень. Я не могу, Штейн, я задыхаюсь.
Штейн. Вы лучше хотели бы быть в Париже?
Ритцау. Я предпочел бы всякую другую, менее несносную страну. Как здесь, вероятно, скучно зимой.
Штейн. Но мы их надолго избавили от скуки. Вы бывали в монмартских кабачках, Ритцау?
Ритцау. Натурально!
Штейн. Не правда ли, какая изумительная тонкость, культура и такой… оригинальный шик? К сожалению, нашим берлинцам до этого далеко.
Ритцау. О да, конечно. Колоссально!
Из двери, почти задом, выходит высокий. Вздыхает свободно и присаживается к говорящим. Вынимает сигару.
Фон-Блюменфельд. Как дела?
Ритцау. Хорошо. Мы говорили о Париже.
Штейн. Тогда и я закурю.
Блюменфельд. Курите. Он не выйдет. Хотите слышать колоссальную новость?
Штейн. Ну?
Блюменфельд. Он сейчас засмеялся!
Штейн. Черт возьми!
Блюменфельд. Честное слово. И двумя пальцами потрогал меня по плечу – вы понимаете?
Штейн (с завистью). Натурально! Вероятно, вы счастливый вестник, Блюменфельд?
Военный телеграфист, козыряя, подает Блюменфельду сложенную бумагу.
Телеграфист. Радиограмма, господин лейтенант.
Блюменфельд. Давай.
Не спеша кладет на подоконник сигару и по-прежнему, точно крадучись, входит в кабинет.
Штейн. Ему везет. Нет, что ни говорите про судьбу, а она есть. Кто этот Блюменфельд? Фон – а вы знали его отца? Или деда?
Ритцау. Имею основание думать, что деда у него вовсе не было. Но он хороший товарищ.
Блюменфельд выходит и снова присаживается к собеседникам, берет еще горящую сигару.
Штейн. Опять военная тайна?
Блюменфельд. Да, конечно. Все, что здесь говорится и делается, Штейн, есть военная тайна. Но это я могу вам сказать. Известие касается наших новых осадных орудий: они подвигаются успешно.
Штейн. Ого!
Блюменфельд. Да, успешно. Сейчас они миновали самый трудный участок пути, знаете, где по бокам болота…
Штейн. О да!
Ритцау. Колоссально!
Блюменфельд. Дорога не выдержала тяжести и провалилась; наш очень беспокоился. Он приказал сообщать о движении через каждый километр.
Штейн. Теперь он заснет спокойно.
Блюменфельд. Он никогда не спит, фон-Штейн.
Штейн. Да, это правда.
Блюменфельд. Он никогда не спит, фон-Штейн! Когда он не принимает донесений или не командует, он размышляет. Как личный корреспондент его светлости, я имею честь многое знать, что не дозволено знать другим, – о господа, это удивительная, это гениальная голова!
Ритцау. Колоссально!
Входит еще один штаб-офицер, молоденький; отдает честь Блюменфельду.
Блюменфельд. Садитесь, фон-Шаусс. Я говорю о нашем.
Шаусс. О!
Блюменфельд. Это немецкая философская голова, орудующая с пушками, как Лейбниц с идеями. Все разгадано, все предусмотрено, движение наших миллионов приведено в столь стройную систему, что ею возгордился бы Кант! Нас ведет вперед, господа, несокрушимая логика и железная воля. Мы неумолимы, как судьба!
Офицеры тихими возгласами «браво!» выражают свое одобрение.
И как он может спать, когда движение наших армий есть лишь движение частиц его мозга! И зачем вообще спать? Я также мало сплю и вам, господа, советую не предаваться глупому сну.
Ритцау. Но этого требует организм.
Блюменфельд. Глупости! Организм – это выдумали доктора, которые ищут практики среди невежд. Я не знаю никакого организма. Я знаю только мои желания и мою волю, которая говорит: Гергард – делай, Гергард – иди! Гергард – бери! И я беру!
Ритцау. Колоссально!
Шаусс. Вы мне позволите, господин лейтенант, записать ваши слова в памятную книжку?
Блюменфельд. Пожалуйста, Шаусс. Вам что, Циглер?
Вошел старший телеграфист.
Циглер. Я, право, не знаю, господин лейтенант, но что-то странное… Вероятно, нас перебивают, но я ничего не могу понять…
Блюменфельд. Что такое? В чем дело?
Циглер. Одно слово мы разобрали: вода, но дальше совсем непонятно. И потом опять: вода…
Блюменфельд. Какая вода? Вы пьяны, Циглер! Тут пахнет водкой, а не водой. Инженер там?







