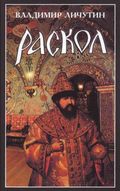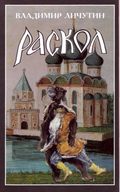Владимир Личутин
Миледи Ротман
– Ваня, не заводись. Так принято на свадьбе. Иль ты позабыл? – горячо причитывала теща. – Пойдем, парень, за стол, не пори горячку.
– Я не буду тебя бить, – сказал Ротман. – Я слабых, пьяных и несчастных не бью. Я добрый. Но вызываю тебя на дуэль.
– Шпаги, рапиры, пистоли? – ухмыльнулся Братилов.
– Я не шучу. – Ротман сказал таким тоном, что Алексей сразу поверил в серьезность намерения. Свадьба закольцовывалась по сценарию невидимого режиссера, и противиться замыслу было бесполезно. А чего – дурить так дурить.
– У нас будет три раунда: точность, ловкость и ум. Народ хочет, чтобы я тебе зубы выбил, но вставлять их нынче дорого.
– А хочешь, я тебе глаз на ж… натяну? Я мешки по сто килограмм таскал, мерзлые туши. Поволочи смену-то. Мне лень связываться, а то бы загнул из тебя кренделя, – загорячился Братилов. Осадок от вина в голове был дурной, художника подташнивало: надо было добавить стаканец, но на дороге стоял этот придурок, о коем Братилов знал лишь понаслышке. Надо было драться, а драться не хотелось. – Не хочется руки марать, а то бы я тебя…
Ротман спокойно выслушал, не колыбнув бровью.
– Все? Высказался? Теперь пошли.
Он вроде бы все продумал заранее, хотя затея варилась с панталыку, сгоряча. На дворе Ротман поставил на березовый окомелок пустую бутылку, отмерил двадцать шагов, дал в руки сосновый дрын.
– Бей!
– Жеребью надо метать, – закричали зеваки. Курильщики сбились табунком, забыли о свадьбе. – Без жеребьи нечестно. Как это – бей? А где совесть? Всё по совести надо!
Тут же крутнули монетку, зарыли в снег, затолклись понарошку, случилась куча-мала. Смех, грай. Луна вышла, засеребрилась, вспухли снега; на крик в Слободе забрехали собаки, в воинской части тревожно завыла сирена. С трудом, наконец, разобрались, чей черед.
Братилов, покачиваясь, долго выцеливал смутно зеленеющее стекло: оно пока не двоилось, но зыбко маревило; он жестко метнул биту – мимо. Ротман, широко разоставя ноги, не медлил; пульнул сосновый дрючок – зазвенела разбитая бутылка.
– За первый урок тебе «неуд». Спишем, художник, на хмель. Теперь пойдем в дом. Держись, богатырь.
– Еще поёрничай. Выбью фиксу.
В горнице было чинно, светло, стол подновлен, поданы свежие рыбные перемены; от пирогов с палтосиной струил прозрачный душистый парок. Все сглатывали слюну, но к еде не приступали, ждали жениха. Хозяйка торчала в дверях кухни, как городовой, выпучив глазенки, строго следила за порядком. В углу на фикусе висели елочные игрушки, похожие на пасхальные писанки, и тонко подгуживали, оттеняя внезапно наступившую тишину. Яша Колесо дребезжащим голосом запел, часто опустошая нос платком:
Однажды в конце осени
Пришел любви конец,
К ней приехал с ярмарки,
Посватался купец.
Она, моя хорошая,
Забыла про меня,
Забыла и спокинула,
В хоромы жить пошла…
Никто Якову Лукичу не подтягивал, городской романс в этих местах не держался.
– Вот и верь после того бабам. Блажной народ, непостоянный, ёк-макарёк. В грудях ветер, в голове дым. Все сладкого им подай.
– Папа, ну будет плакать, – утешала дочь, уже с неприязнью взглядывая на опухшее, в сизых пятнах лицо отца, на его взлохмаченную головенку, в который раз повторяя словесную карусель. – Ведь не на смерть провожаешь, не в чужие края. Дома остаюся.
Яков Лукич всхлипывал и нудил снова:
– Ну как, доча, не плакать. Израиль-то не ближний конец.
– Дурак, – осекла Миледи. – Будешь талдычить, уйду из-за стола.
Тут-то и появились распалившиеся, разгоряченные улицей, отбившиеся от свадьбы гости. Впереди, победительно вознеся голову, выступал Ротман.
– Ти-ха, всем молчать! – вскричал Вараксин. – У нас дуэль. Вы знаете, что такое дуэль? На победителя, значит, ёшкин корень. До первой крови! Прошу оставаться всем на своих местах согласно стаканам, тарелкам и коклетам. Вперед не забегать.
Вараксин был часовых дел мастером и хорошо знал порядок тонкого механизма: главное, наладить пружину и дать ей толчок, чтобы слепые колесики забегали.
– Какие коклеты? – всполошилась баба Маня, косорото оглядывая стол. Смертная обида отразилась на лице. – Кулебяки вижу, а никаких коклет. Съели без меня?
– Время не терпит. Второй раунд, – объявил Вараксин. – На ловкость. Говорю для тех, кто спать любит.
Ротман поставил на пол спичечный коробок торчком, сухо сказал Братилову:
– Достань зубами, не сгибая ног в коленях.
Гостей из-за стола как ветром сдуло. Есть без конца – дело свинячье: брюху дай отдыху, душе – занятье. Хоть что-то после вспомнишь.
У Братилова мешковатые вельветовые брюки с пузырями на коленях, с залысинами и потертостями. Нагнулся. Длинные светлые волосы свалились на глаза, щеки бурячно налились, побагровела толстая шея. Миледи сбоку смотрела на тужившегося напрасно Братилова, и ей было по-бабьи жалко его. Ей вдруг показалось, что отрывает она от сердца родную кровинку, и уже больше не видать ее никогда. Патлатый, неухоженный, неприбранный, живущий наодинку мужик не хотел покидать ее сердца. «Ну что ты липнешь ко мне? – вдруг тайно взмолилась она. – Пристал, как репей на собачий хвост. Ну, было, дала послабки, так сейчас-то что нужно у нас в доме? Явился незваный и вот галит, вся свадьба кувырком, людям на смех».
Братилов, сдаваясь, пренебрежительно пульнул ботинком спичечный коробок, подошел к столу и, не чинясь, опустошил чью-то рюмку. Над ним издевались, надо было уходить, но ноги не несли к двери. Он криво улыбнулся Миледи; невеста не сводила с него укоряющих глаз… Ах ты, ведьма, сучье ты вымя…
Ротман не спеша снял пиджак, повесил на спинку стула, растелешился до пояса: на теле ни жиринки, подбористый живот с грядою желваков, грудь двумя блюдами, под атласной, туго натянутой кожей вроде бессонно снуют по своим норам потайные зверьки, бугрят и взбивают наружу мяса, выдувают всхолмья.
– Сталлоне! – восхищенно пискнула какая-то девица.
Ротман себе нравился; это виделось по размеренным повадкам, как расставлял плотно ноги, забирал за спину руки в замок и втягивал брюшину. Этот прием он повторял раз двадцать на дню, как только приводилась свободная минута. Но зачем это знать остальным?
– Красавец. Какого парня Милка оторвала! – причмокнул губами Яков Лукич. – Хоть и яврей, но красавец. Ты, доча, его на цепи держи, а то сбежит.
– А что, и наша дочка не десятая вода с киселя. Скажешь, уродина? Ты что дочку свою малишь, а? – заступилась мать. Она незаметно подгреблась сквозь толпу к самому столу и сейчас с тоскою озирала вороха снеди и сиротеющие тарелки. «Кулебяки-ти не порозны. С палтосиной. Теперь такой рыбки не укусишь. С Мурманска прислана. Заклякнут, какой вкус? – мысленно причитывала хозяйка, поглядывая с унынием на пироги, столько сил отнявшие у нее. – Эх, дурью маются, а дела никакого не ведут. Пришли-то пить-ись, дак ешьте и пейте до отвалу. Не в таз же все срывать?!»
Ротман медленно, красуясь, склонился до пола, серебристым ежиком волос коснувшись ярко-красных половиц, прикусил зубами спичечный коробок, опустился на колени перед невестой и, как верный пес, протянул ей добычу.
– Молодец. Хвалю, – сказала Миледи, зардевшись, и погладила Ротмана по голове.
– Во писатель дает. Цирк! – воскликнул часовщик и пьяно покачнулся. Толпа удержала его и повлекла с собою за стол.
– Вы что, на цирк пришли? Или на свадьбу? – запричитала хозяйка.
Яков Лукич тут же оборвал бунт:
– Цыть, старая скважина. Жрать – дело поросячье. Тут грудь на грудь сошлися мужики, и наш зять берет верх. Закудахтала курица. Может, хочешь порулить? – уже с миром предложил хозяин. – Так и скажи: дай, Яша, порулить.
Свадебщики взяли на грудь по стакашку, но не успели отщипнуть от кулебяки, кинуть в черева жирных палтусинных мясов иль хоть бы обсосать хрящик, как часовщик снова взвился над гостьбою, словно бы перо в задницу воткнули человеку, и никак не мог он толково посидеть на лавке.
– Схватка третья. На башковитость. Теперь, Ротман, наяривай сам. Я жрать хочу.
Вараксин добыл из кармана челюсти, поставил на место и с жаром принялся за еду. Ротман мягко улыбнулся, впервые за вечер приобнял невесту по-домашнему, уже по-хозяйски, что-то шепнул в розовый завиток крохотного ушка; Миледи вспыхнула, заиграла глазами. Любовь такой необъяснимой силою обладает, что из старой вредной карги скоро выкуделивает писаную красавицу, хоть бы и на пять минут.
– Давай, Братилов, напряги извилины. Кто за одну минуту лучше сочинит о невесте. Вроде буриме, да. Есть такая игра. Но тут без условий: ни количество строк, ни жанр не стесняют. Только красота слога.
– Может, хватит?
– Смотри. Я без претензий. Иль струсил, дуэлянт хренов?..
– Братило, давай, не трусь, Братило. Я на тебя ставлю, – завопил Вараксин, торопливо вынув челюсти. Боялся зубы потерять. Стол с непонятным жаром разбился на партии. Всю разладицу принимали смехом, мало понимая потаенного нерва этой игры; она в любую минуту могла вспыхнуть и скинуться в дикую потасовку. Но Миледи слышала внутренние струны этой драмы, и нервы ее сладко трепетали. «Боже мой, – думала она, – я так мечтала прежде командовать парнями, и вот тут схлестнулись из-за меня прямо на свадьбе. Только бы без греха, только бы без крови. Бедный Алеша, как он жалок… И как могла я любить такого отелепыша? Как верно сказано: отелепыш, телепень, раздевулье, дижинь мучная».
Тут Братилов, сжатый соседями, мешковато поднялся с лавки, встряхнул волоснею, как это делают настоящие поэты:
– Миледи, как стакан вина, тебя я осушил до дна…
Миледи вздрогнула от обнаженного смысла слов. Но вида не подала, лишь всхлопала в ладони. Братилов налил водки в граненый стакан, в котором на дне оставалась клюквенная запивка, и залпом выдул.
Настал черед Ротмана. Он прокашлялся, поправил под кадыком атласную бабочку с бриллиантом:
Миледи, жизнь твоя бледна,
Я вижу это в письменах,
Что отпечатались на блюдце.
В подсказках чая и вина
Как важно прочитать то чувство!
Миледи ближе был чувственный гусарский наскок Братилова, но как музыкальная женщина и нервная натура, как будущая верная жена она склонилась к стихам Ротмана. Но и неловко было объявлять свои симпатии, ибо Братилов как бы оказывался в полном проигрыше, донельзя униженным. Гостям же было не до тонкости стихов, им уже прискучило это брюзжанье двух мужиков, что зубатились, как дети, словно бы забыли, как следует вести себя в подобном деле: один дал в зубы, другой ответил под микитки, вцепились мертвой хваткой, оседлали по-медвежьи, кто подюжее, пустили юшку, потом ударили по рукам, выпили по косушке – и снова обиды прочь. И неуж из-за бабы можно себе судьбу ломать? Ножиком в брюхо иль хуже того – топоришком по виску? Это лишь в старых романах дворяне чуть что – хватались за пистоли, ценя жизнь свою в полушку; ну да от безделья что только ни втемяшится, какая только блажь ни полонит дурную голову. Но все же в прежних поединках была отвага, задор, такая искра отчаянья, от которой занимается смертный костер.
– На твои стихи, Ваня, надо романсы писать. Ты удивительно музыкальный человек.
– А, что стихи! – затоковал Яков Лукич; опираясь на плечо дочери, попытался подняться – и не смог. Рюмка за рюмкою пригнетали старика, отбирали последние силы. Но он хорохорился и, несмотря на всю свинцовую омертвелость рук и ног, имел еще ум ясный. Лицо у Якова забуровело до кумачовой яркости, и любой здравомыслящий человек, взглянув в эту минуту на хозяина, понял бы, что того ждет апоплексический удар, а по-простонародному – кондрашка. – Я этих стихов-то могу тоннами. Мне бы плати, дак я бы всю вашу газетку заполнял, – похвалился он перед зятем. – Вот сейчас сочинил: «Наша Милка – сладкая кобылка, мужика зарежет без ножа и вилки». Ну что, хуже вашего?
– Краше станет, – поддержали гости хором. – Куда краше. Они-то институты пооканчивали, им воля языком молоть. Нам сколько надо назьма перелопатить, чтобы копейку заробить. А они не надсажаются, не-ет.
Свадьба пошла по новому кругу, и молодых опять позабыли. Братилов в одиночестве наливался вином, не понимая, зачем он еще сидит тут. Ведь по всем статьям промахнулся художник; ему бы слинять, от стыда сгореть или лучше того – пустить все на смех, но он как бы замкнул свадьбу на свою персону и собирался вроде бы эту злополучную игру довести до занавеса. Но господин хмель одолел буйную головушку, и давно не принимавший вина Братилов в какой-то миг потерялся, уронил голову на руки и забылся. Ночью его растолкал Вася Левушкин, завел в ту злополучную кладовую, уложил на лавку и прикрыл тулупом.
Утренний сон и богатыря свалит. Пошатываясь, разбрелся народишко по Слободе; целовались, обнимались, клялись в верности и дружбе, после на заулке еще долго табунились особенно крепкие, как будто привязанные вервью к дому Левушкиных, никак не могли отстать от бутылки. На Северах ночь долгая, едва развиднелось, чуть снега посерели, значит, на работу пора сбираться. И Яков Лукич до рассвета не давал слабины, все на молодых равнялся, а после упал на диванчик и стих. Вот пора и молодым разбирать постель, разговляться, сливки снимать, приноровляться да примеряться, а к утру и простыни вывешивать на посмотрение да похваляться девической чистотою. Ну, это прежде гордились, а нынче-то девчонке распечататься – как цигарку выкурить: ни оху – ни вздоху; коя, может, и припечалится чуток, да с новым днем и скоро забудет о потрате. «Всяка девка бабой станет, дак чего годить да убыточить?»
Иван, будто чугуном налитой, одиноко сидел за расхристанным столом, вымученно, пусто глядя пред собою, и уже смутно сомневался, а стоило ли надевать хомут, стоило ли снова впрягаться в семейную телегу? Ведь было, тянул обоз по ухабам, да на десятой версте и оборвались все оборки, поломались все копылья. И вдруг снова не повезет? Слышал, как Миледи в своей девической комнатке всхлопывает простынями, шелестит наволочками и скользким розовым одеялом, взбивает подушки. Тем временем Ротман, вроде бы беспричинно, все мрачнел и мрачнел. Подошла Миледи, ласково обвилась руками за шею.
– Не пойду в примаки! – вдруг угрюмо объявил Иван.
– Хочешь, я тебе Мендельсона сыграю, как живой воды отопьешь.
– Одевайся, пойдем ко мне, – отрывисто настаивал Ротман. Дом Левушкиных оставался ему случайным, похожим на постоялый двор; сюда Милка водила парней, и все пропахло чужим потом.
– Ваня, не огрубляйся. Наша первая ночь, ты мне чуток понорови, а там – как пожелаешь.
– Машина любит смазку, а баба ласку. Уступи ей, Ваня, – подъехала на цыпочках теща. – Оставайтесь, куда пойдете? Кровать направлена, на крючок запритесь – и никто не потревожит. Я у дверей отца сторожить поставлю, чтобы пьяницы с утра не толклись. Давайте, дети, баиньки, – ласковыми словами выстилала Ефросинья путь молодым до кровати. – Оба не питкие, тверезые, можно и детишку застряпать.
– Мама, будет тебе.
Ротман накинул на плечи кожан, неуступчиво стоял у порога и всем видом показывал, что пререковы бесполезны. Он сразу хотел подняться над женою, чтобы после не возникало споров, кому верховодить. Лицо от долгого гулянья счернело, и шрам на лбу, наподобие молочного месяца-молодика, белесо набух. Миледи покорно пошла попрощаться с отцом. Яков Лукич не храпел, как обычно. Лицо заострилось и в обочьях, и в открылках носа покрылось пеплом. Миледи потрогала лоб и, ожегшись, завопила на весь дом:
– Папа умер!
– Да будет тебе молоть, девка. Только, кабыть, песни пел.
Фрося подскочила к благоверному, прислонила ухо к груди, сердце не ковало; дернула за руку, кисть безвольно упала. Притащили зеркало с комода. Прислонили к губам, но дух не испарялся; знать, Яша Колесо уже выруливал решительно к Небесам. Фрося, еще не веря, поднесла зеркало к самым глазам, но потины не увидала и сразу запричитала:
– Ой, и на кого же ты нас спокинул! Ой, жорево несчастное, говорила: не жори, с сердцем неладно. Запнешься – и не встать. Так и есть. Всё за молодыми наугон, и рюмкой не хотел отстать. Ой, пьянь, ой, пьянь, ему на свадьбе приспичило помереть, не нашел другого времени, дьяволина. Со свадьбы да на похороны, как чуяла. Милка, зови братовьев, надо ящик колотить, а мне покойника уряживать.
Миледи упала отцу на грудь, заколотилась: ой, папенька, да ой, папенька. Сердце-вещун намедни подсказывало беду, всю прошлую ночь ходило наперекосяк, норовило сорваться, как яблоко с черена, да, видишь ли, удержалось. Такое темное худо видела – и вспомнить страшно. Миледи, глядя на отца, орошала слезьми сухощекое лицо и горбинку выпятившегося носа, словно бы искала хоть малой живинки или ждала великого чуда. Слезы – Господний родник, они, говорят, бывают порою волшебнее живой воды. Яков Лукич вдруг вздрогнул, грудь выпятилась, изо рта словно бы пробка вылетела иль большая рыжая жаба. Старик беспамятно, осоловело открыл глаза, приподнялся с подушки, тупо оглядел народ и, едва шевеля губами, невнятно спросил:
– Где я?
– В аду, дурень! – отрезала жена и снова завыла на всю избу.
Голова старика упала на подушку; как яблоки печеные, коричневые щеки посветлели и покрылись росою. Яков Лукич задышал ровно, бесплотно, как младенец, на длинный рот, обсаженный толстой щетиною, легла блаженная улыбка. Яша Колесо решительно рулил с Небес обратно на землю, которая еще не опостылела ему.
– Ну, пошли, что ли? – виновато позвал с порога Ротман.
Теща уже не неволила зятя.
Глава четвертая
Во всю дорогу Миледи не могла прийти в себя; ее то позывало на слезы, то распирало истерическим смехом. По корыту глубокой тропинки двинулись на «шанхай»; платье волочилось по снегам, норовя приторочиться, улипнуть подолом к березовым вешкам, наставленным вдоль пути. Судьба влекла Миледи по единственной насуленной дороге, кою не миновать, не обойти, но какая-то неисповедимая сила не отпускала от родимой избы. Ротман сутуло, забывчиво ступал впереди, месил свежую порошу кривыми ногами, он казался тесаной из камня-гранита равнодушной глыбою; ей бы лежать в суглинке, погребенной снегами, а она, вот, выпятилась середка зимы неожиданно живой плотью и сейчас плыла без цели. Миледи равнодушие мужа обижало, и она невольно замедляла шаг, потом опомнивалась и догоняла Ротмана, чтобы через секунду снова отстать. В Слободе стояла предутренняя тишина, обложное, темно-сизое небо лежало на самых крышах, и ни в одной избе еще не оживили огня. Молодые пересекли болотце, перелезли через прясла и путаной тропинкой вышли за Заднюю улицу. Да что тут о пути городить? Всей-то дороги станет с триста сажен, и за жизнь-то ой сколько по ней бегивано с младенчества.
Миледи вдруг подумала, что идет к благоверному на житье, а еще ни разу не бывала в дому; эта старая, вернее, одряхлевшая без призору усадьба, которую обзывали на Слободе «шанхаем», невольно притягивала взгляд своей неухоженностью. Она казалась загнившей язвою, этаким вулканом, чиреем на довольно сносном лице центрального прошпекта; но это владение считалось ныне собственностью неприкосновенной, и никто не помышлял подъехать к развалинам на бульдозере и спихнуть его в подугорье.
Калитки во двор не оказалось, но к изгороди с той и другой стороны были брошены приступки из березовых окомелков, на которых легко можно было испроломить голову. И только возле своего житья, когда надо было одолеть забор приступом, Ротман приостановился. Он отмяк и сейчас вновь любил Миледи. В боковом кармане кожана грузно отвисла бутыль «шампани», и Ротман представлял, как сейчас они вскроют шипящее вино и разопьют его с предвкушением. Ротман давно не знал женщины, он, кажется, забыл, как пахнет это капризное существо, и предстоящая любовь зажигала в нем лихорадку. Он затомился, когда поцеловал тонкие остывшие персты, похожие на зальделые ивовые прутики, готовые обломиться, и почувствовал, как вздрогнула Миледи. Лицо в потемни было смутным, но зеленые глаза по-кошачьи загорелись.
– Прости, милая, прости, – путано сказал Ротман. – Знаешь, угар какой-то. Эти гости, столько вина, еды. Духота, гам, вздор, этот дурак Братилов. Да не к месту тесть помер, после жабу выплюнул и ожил. – Ротман неестественно хихикнул, ловко перескочил за изгородь и помог молодухе перебраться в новое житье. – Прошу-с, сударыня, не побрезгуйте, да-да. Не дворец, да, но дом не из последних, из Шанхая доставлен на военном крейсере, да-с.
В промороженном доме было стыло, как в пустом амбаре; рискуя свернуть шею, по лестнице забрались на второй этаж, потом на вышку, Ротман потянул за клок отставшей дерматиновой покрышки и открыл дверь. Иван включил свет, вступил во владения, Миледи осталась на мосту, испуганно вглядываясь в убогое житье. Ротману вдруг стало стыдно за свою обитель, но он тут же подавил в себе мгновенную слабость. Сколько бы времени Миледи стояла за порогом, не решаясь переступить в комнату, один Господь знает, но Ротман уловил этот испуг, ловко подхватил жену в объятия и занес в камору. Когда-то первую жену он тащил на руках на одиннадцатый этаж и нажил грыжу: боже, какой же был он дурак. Сейчас она сучится с другими, лижет, кто побогаче, снимает с них «капусту», а он, деревня, начинает жизнь с нуля на краю света.
Что это за келья, куда приволок Ротман свою молодайку? Наверно, стоит полюбопытствовать на нее припотухшими за свадебную ночь, но любопытными глазенками новой хозяйки. Клетуха? Келья? Камора? Нора? Камера? Норище? Прислон? Ночлежка? С первого взгляда поражала серая стерильная чистота. Ротман даже и шага не позволил ступить молодухе, но сразу велел раздеться у порога и протянул великаньи басовики, отрезанные от старых валенок. Вскоре Миледи поймет, что калишки – это спасение. Пол был всплошную устлан газетами, и по их порядку было заметно, что по ним еще не ступали ногою. В углу стояла низенькая, изрядно задымленная печура с плитою, за камельком соседился странный ящик с грудою одеял и шкур; еще заметила Миледи подвесной столик у окна на капроновых шнурах, старую лампу на латунном стоянце, несколько книжных полок и крохотный телеящик. Все стены покрыты цветными журнальными вырезками весьма скабрезного содержания, но в углу под иконами теплилась лампадка и лежал войлочный коврик. Оказывается, Ротман вел двойную жизнь и впервые поневоле открылся Миледи закрытой стороною.
– И ты тут живешь? – искренне изумилась гостья.
– Не царские палаты, конечно, но кое-что. Только капельку воображения, – серьезно ответил Ротман.
Он споро оживил истопку; за чугунной дверцею заиграло, зашумело с потягом пламя; осколки сияния, как суетливые розовые зверушки, выпорхнули через щели и заплясали по газетам. Дровишки были накиданы загодя, занялись жарко, и скоро в каморке оттеплило. Миледи заняла единственный стул, просунула меж колен ладони и не знала, что предпринять. Все застыло в ней в недоумении, но пока не хотелось признаваться, что ее жестоко провели, надули, обвели вокруг пальца; она принимала пока все увиденное за игру. Полагалось ей, хозяйке дома, молодухе, засучить рукава и приняться за какую-то обрядню, требующую скорых рук, но растерянность женщины была сильнее забот. Тут надобно было ломать весь установившийся мир. Но тайным хитрым чувством Миледи понимала, что сейчас не надо перечить, именно в эти минуты стоило поублажать мужика, чтобы он не закис в тоске с первых минут, но почувствовал в ней заботницу. Да и что сейчас возникать, коли променяла шило на мыло?
– Может, ты йог или начитался Чернышевского? Я думала, что нынче так живут лишь бомжи.
– Я был бомж, а теперь у меня имение; значит, я именитый человек. Оно имеет цену, пусть и крохотную, значит, я ценный человек. А у ценного человека всегда есть будущее. Из миллионов мужиков ты выбрала того, единственного принца, о котором грезила во снах.
– Допустим, я не грезила принцем. Я с детства любила толстого рыжего слесаря из гаража, ждала у его дверей той минуты, когда он пойдет на работу. От него пахло бензином, соляром и машинным маслом. Мне нравилось нюхать его фуфайку. Она блестела, как антрацит.
Ротман в черном парадном сюртуке с бабочкой на шее выглядел на этом чердаке клоуном. Он мялся у порога, подкидывал тяжелую бутыль с «шампанью», как гранату, и вроде бы отсутствовал в данном месте. Миледи попадала в клетуху с родным человеком, но тот, оказывается, остался где-то на воле, на заснеженной пустынной улице. Ротману же не хотелось открываться во всем сразу, но эта женщина своим тревожным видом приневоливала его. Надо было пригреть, утешить ее вспугнутую душу. Ротман оглядел свою келью взглядом жены, и житье показалось чудовищным.
– Ну что ты, радость моя, считай, что это сон, мною обжитый, а для тебя скверный. Я притерпелся к нему, и не то чтобы житье это мне в радость, но и не в несчастье. Все это временно, поверь мне, – спешил Ротман оправдаться. – Есть в жизни траты безвыходные, необходимые и пустые. Безвыходные – это хлеб, вода, соль, ну, без чего подохнешь. Необходимые – это ботинки, портки, рубаха, без чего стыдно на улице показаться, по ним снимают мерку с человека, делают о нем мнение. Встречают по одежке, провожают по уму. Я журналист, и мне приходится поневоле расходовать деньги, хотя душа претит, тут много лишнего, что называют люди своей искривленной прихотью: будь, как все. А есть траты пустые: выпивка, курево, всякие прибабаски, рестораны, чтобы шикануть. Ну и женщины, их ведь надо ублажать.
– И ты завел жену, чтобы не тратиться?
– Ну что ты, радость моя. Я себя утесняю, чтобы скопить деньжат. Скоро мы купим квартиру где-нибудь в Сочах, обставим ее и заживем. У нас пойдут дети, много детей. Еще не поздно, лет двадцать можно ковать. Вон Сара в сто лет родила. А я кузнец добрый, ты это сама увидишь. – Признание прозвучало похвалебщиной, и Ротман невольно поперхнулся, но скоро замял неловкость: – И то, не хвались, едучи на рать – знаешь присказку? Дети – цветы жизни, дарите девушкам цветы. Тебе, Миледи, золотой муж достался, червонец царской чеканки. Если захочешь, каждый год буду дарить по букету.
Да, Ротман умел увещевать. Он вновь приоткрылся с неожиданной стороны и умирил, обогрел Миледи, насулив грядущих блаженств. Уже иными глазами женщина оглядела чердак, и временное обиталище показалось ей интересным.
– Ага, Ваня. Хвалите меня, мои губоньки, а не будете хвалить – раздеру. Я понимаю, что с милым рай в шалаше. Но скоро весна, побегут потоки, как бы нас в ту пору не подмочило и не смыло в подугорье. – Миледи вздохнула. На чердаке нагрелось, и пришлось невольно скинуть шубейку. – Знаешь, Ваня, я так мечтала всю жизнь поселиться во дворце, где много-много комнат, зеркал, люстр и можно легко заблудиться. Иль, напротив, жить, скажем, в крохотной избушке в два окна в глухой тайге на Севере, и чтобы одна на весь белый свет, и никто не сыщет, не спохватится. Жить, как трава.
Душа у Милы переменчива, как осеннее небо перед Покровом: то солнце проглянет ослепительно, как зрак Господа, и тут же туча наскочит бураками, посыплет крупным, как соль, искрящимся дождем, то синью тяжелой затянет, обещая нудный обложник, чтобы тут же раздернуть его на лоскутья льдистым ветром-морянином. Про таких говорят: блажная, с чудиком в груди; жить с такою тяжело, нервно, но интересно.
Ротман наконец-то беззвучно вскрыл «шипучку», разлил вино по солдатским кружкам, наполнил посудину всклень, но так, чтобы на пол не сронить ни капли. Посмотрел под ноги и, приодернув штанину, встал на колено:
Миля – роза, Миля – цвет,
Миля – розовый букет.
Миля – лента голубая,
Не забудь, меня родная.
Ротман отхлебнул вина, поперхнулся. И Миледи скромно отпила, облизнула накрашенные, бутоном, губы, сверкнула зернь еще не подернутых желтой мутью зубов; она устала сидеть в скованности и сразу отмякла, откинулась на спинку стула. Что ни говори, но женщины любят ушами, каждая волоть тоскующего по родинам тела наполнена особым осязанием и похожа на граммофонную трубу. Каждой мясинкою Миледи ждала желанного припоздавшего гостя, а он отчего-то мялся у полуотворенной двери, не решаясь заходить. «И чего ты боишься, дурилка? Чего тянешь невозвратное время, будто бы уже насытился на стороне и сейчас страх Господний сунуть голову в семейное ярмо? Боишься, что поверх станет мед, а понизу деготь? Дурачок, не тяни же время! – взмолилось сердце. – Уже развиднелось, и скоро будить явятся, а мы еще и постели не измяли».
Миледи – роза,
Миледи – цвет,
Миледи – одуванчик,
Миледи, я тебя люблю,
Только я не мальчик.
– Давай, радость моя, на брудершафт. И чтоб до дна. До единой капли! Как все сладилось, а?! Чтоб золотою цепью оковаться, и чтоб никакая разруха не просунула меж нас носа. Чтобы и комар носа не подточил. Ну, милая моя, чтоб в ногу шагать! Раз-два, рулить прямым курсом! – Ротман согнул руку калачом, просунул под локоть молодухе и, не дожидаясь, осушил кружку до дна; выпил залпом эту кислятину, как будто заливая сердечный жар, притушивая телесную дрожь, которая, оказывается, ни на миг не отпускала плоти, но свинчивала ее в тугой штопор. Только тут Ротман услышал, как ревет в нем таежный лось, домогаясь капризной коровы. Он приоткрыл улыбчивый взгляд и с каким-то придирчивым сторонним интересом уставился в женское лицо, будто видел его впервые. Миледи цедила шипучку сквозь зубы, как сладостную отраву, и с каждым глотком губы ее разбухали, наполнялись кровью. Она пила вино целую вечность, дразня Ротмана, запрокинув голову, и казалось, что золотые волосы, уложенные высокой коруною, вот-вот переломят жалобную тонкую шейку с набухшей голубою жилой. Ротман провел пальцем по живому родничку, под кожей суетливо толклась упругая ящерка, поцеловал, дразня, в изгиб шеи и перенял кружку. Он не раз вспахивал бабье поле и знал, как провести первую борозду, чтобы не напортить. Миледи разомкнула густо затушеванные в обочьях глаза, чуть подтянутые к вискам, косила на Ротмана взгляд.
– Не торопи меня. Я сама.
Миледи вдруг заплакала. Уж и не девочка, казалось бы, в старых девах засиделась, и ей ли бы сейчас строить невинность. Может, она играла с мужиком, чтобы, как всякая женщина, сразу дать себе цены, не продешевить, а значит, стоило пощипать нервы, разжечь его чувства до того жара, чтобы он кинулся в ее владения, позабыв всякий остерег. Ой, хитровановна, ой, лиса патрикеевна, как распушила хвостище свой; будто бы хочет пристойности в любви, а сама без удержу наяривает на чужих струнах, чтобы с шумом и гряком лопнули они, а там и пропади все пропадом! И – эх, залетные! – только и вскрикнешь, растворяясь в налетевшем вихре.
А может, устала, изнервничалась за свадьбу, опустошилась в чувствах и сейчас вымаливала той вкрадчивой ласки, от которой поначалу зашелестит душа, как березовый листок, а после и тонко загудит, как берестяная кожуринка, и запылает ответно. У всякой бабы свои заморочки, и мужику ой трудно угодить в ее потайные скрыни, чтобы завладеть таинственными, драгоценными для нее ухорошками.