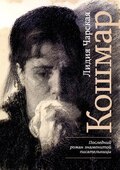Лидия Чарская
Гимназисты
Глава XI
Бенефис латинца
Лишь только преподаватель латинского языка вошел в класс, он сразу почуял собравшиеся над его головой тучи.
Данила Дмитриевич Собачкин – худой, желчный, с рыжими бачками в виде котлеток, с бегающими, подозрительно выискивающими что-то глазками, производил далеко не благоприятное впечатление всей своей почтенной особой.
Злополучная доска с карикатурой была повернута от кафедры с таким расчетом, что Шавка, сидя на своем обычном месте, никак бы не мог увидеть ее. Но зато, если бы латинист вздумал «низвергнуться», по выражению гимназистов, эффект мог бы получиться чрезвычайный.
– Что задано? – желчным, раздраженным голосом обратился он к классу.
Дежурный Бабаев, как бы нехотя, поднялся со своего места.
– Ода Горация, – произнес он.
– Которая?
– Тридцатая, из третьей книги. Monumentum[6].
– Прекрасно.
Шавка опустил глаза в записную книжку, где у него значились фамилии учеников в алфавитном порядке, и произнес в нос, растягивая слова:
– Ватрушин, переведите.
Злополучный Кисточка, растерянный, смущенный и близорукий, моргая своими милыми серыми глазами, вскочил со скамьи и произнес, запинаясь:
– Не готовил перевода, г. учитель.
– Как-с? – так и подскочил Собачкин на своем месте. – Как-с вы изволили сказать, господин Ватрушин?
– Не учил, говорю.
– А почему – с? Смею вас спросить, господин Ватрушин?
– У него сестра заболела, – выпалил вместо Ватрушина со своего места, мрачный Комаровский. – Всю ночь ей компрессы пришлось ставить…
– Но, сколько мне известно, у господина Ватрушина нет сестры. Он единственный сын, господин Ватрушин, – язвительно произнес Шавка и впился в Комаровского уничтожающим взглядом своих маленьких колючих глаз.
– Так что ж что единственный! – тем же мрачным тоном пробасил Комаровский. – Сестра родилась недавно… В воскресенье родилась.
– В воскресенье родилась, а в понедельник заболела… – съехидничал Шавка.
– Так что ж… Точно не могло этого быть… Эти новорожденные всегда болеют. Живот болел.
Класс фыркнул. Шавка «зашелся», как говорится, от злости.
– A у вас живот не болит, господин Комаровский? – произнес он, заметно сдерживаясь и злясь.
– Нет, не болит.
– Так переведите Горация.
Комаровский равнодушно дернул плечом и мешковато взял книгу.
В ту же минуту с первой скамьи поднялся Каменский. По лукавому и красивому лицу «тридцать три проказы» можно было угадать, что любимец класса готов выкинуть новое «коленце» в самом непродолжительном времени.
– Данила Дмитриевич! – прозвенел его звучный молодой голос. – Вы не именинник ли сегодня?
Латинист свирепо взглянул на юношу.
– Нет! – оборвал он сухо.
– И не рождение ваше?
– Нет.
– И не день ангела вашей супруги? – не унимался шалун, в то время как класс буквально давился от смеха, готовый расфыркаться на всю гимназию.
– Что вам надо от меня? Чего вы привязались? – взвизгнул Собачкин… – Садитесь на место и оставьте меня в покое! Комаровский! Начинайте переводить.
– Я не учил Горация, Даниил Дмитриевич! – прогудел равнодушный бас последнего.
– Как не учили? – так и вскинулся на него латинист.
– Брат в канаву упал и сломал ногу, – также уныло гудел Комаровский.
– И вы ему компрессы ставили, – мгновенно весь разливаясь желчью, прошипел Собачкин.
– И я ему компрессы ставил! – заключил в тон ему невозмутимый Комар.
– Садитесь! Дальше компрессов вы не двинетесь. А на экзамене срежетесь, как последний осел из ослов,[7] и меня осрамите на веки веков! – свирепо проговорил Собачкин.
И тотчас же со своего места снова вскочил Каменский.
– Господин учитель! – произнес своим звонким голосом Миша. – Как перевести следующую фразу: «Когда глупая собака сдружится с гадюкой, она рискует быть ужаленной»?..
Латинист вспыхнул от бешенства, но сдержанно отвечал:
– Этой фразы я вам не скажу, а удовольствуюсь другою: «У глупой собаки бывают острые зубы и ни змеиное жало, ни ослиное копыто ей не страшны. Она умеет кусаться».
И довольный своею остротою, латинист перевел свою фразу на латинский язык, потом неожиданно соскочил с кафедры и пошел «гулять» по классу, торжествующий и удовлетворенный более, чем когда-либо.
– Будешь часто кусаться – зубы притупятся! – проворчал себе под нос Миша, нехотя опускаясь на свое место.
– Что-с? Что вы изволили сказать? – преувеличенно-вежливо обратился к нему Собачкин.
Миша сделал невинное лицо и, как ни в чем не бывало, развалился на скамейке.
Собачкин поставил злополучному Комару двойку с минусом в балльник и, оглянув весь класс, как бы заранее предвкушая хороший ответ, произнес, потирая руки:
– Фон Ренке! Побеседуем с Горацием!..
Нэд поднялся, надменный и высокомерный, как всегда. Он взял спокойным движением руки книгу со стола и своим деревянным голосом начал:
Exegi monumentum acre perennius
Regalique situ piramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impoltns,
Possit di ruere aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum[8].
Нэд переводил гладко и легко, тем уверенным тоном, который не покидал его ни в какую минуту его жизни. Нэд переводил, а Собачкин слушал его с видимым удовольствием и потирал руки, щуря, как кот, глаза и кидая на своего любимца – длинного барона – ласковый и благодарный взгляд.
– Этот мол-де не продаст, этот не выдаст. Что за чудный юноша! – казалось, говорили эти глаза.
Чудный юноша дочитал до точки и остановился.
– Благодарю, Ренке, вы меня радуете… Я сохраню лучшее воспоминание о вас. У меня мало друзей в вашем классе, – размягченным голосом произнес учитель.
Фон Ренке вспыхнул. Похвала не доставила ему удовольствия… Напротив… Какой-то жалкий учителишка навязывается ему на дружбу, ему, барону Нэду фон Ренке!
Но латинист, казалось, не разделял его мнения, он ласковым взором обвел костлявую фигуру Ренке и произнес еще раз почти нежно:
– Благодарю вас, сердечно благодарю! Успокоили старика.
Потом грозным взором окинул класс.
– Стыдитесь, господа! Ведь вы, так сказать, завтра в университет поступаете, а с такими знаниями латинского языка какие же из вас студенты выйдут? Ведь вы меня на голову осрамите там, перед профессорами! Ведь что они подумают? Стыдно, господа! Вы не дети, должны понимать, что без латыни шагу нельзя сделать…
И Шавка продолжал распространяться, нервно бегая по классу. Но вот он неожиданно повернулся лицом к кафедре, шагнул вперед еще и еще и вдруг неожиданно замер, пораженный видом злополучного изображения, с неподражаемым искусством выведенного на классной доске.
– А-а-а?.. – не то простонал, не то протянул несчастный и своими жалящими глазами так и впился в доску.
Класс не выдержал и громко прыснул. Что-то невообразимое произошло с Собачкиным. До последнего мгновения он не подозревал еще всей проделки.
– А-а!.. – вырвалось еще раз из груди его возгласом, полным не то отчаяния, не то испуга. И багровый румянец сразу сменился зеленоватой бледностью на его лице…
Он поднял руку… ткнул неподражаемо красноречивым жестом в доску с карикатурой… и взвизгнув фальцетом на весь класс:
– Я буду жаловаться инспектору, да-с! – пулей вылетел за дверь.
… … …
– Ну теперь, братцы, держись! Здорово зарядился! – И Гремушин, как пробка, вскочил на кафедру.
– Господа завтрашние студенты! Вали к доске! Стирай картину! Не то плохо будет! – закричал он не своим голосом.
Размахивая руками, завтрашние студенты в одну секунду повскакали со своих мест и очутились у доски всей оравой. Взмах губки, полотенца… и в одну секунду черная доска уже поражала взгляд своей трогательно-невинной пустотою. Самый след преступления исчез навсегда.
Когда через десять минут Ирод, в сопровождении Шавки, входил в класс с грозным многообещающим видом, у доски стоял маленький Флуг и, прикусив по привычке кончик высунутого языка, старательно выводил на злополучной доске карту Азиатской России. Костлявый палец «Тени отца Гамлета» уткнулся в нее.
– Что это?
– Карта Азиатской России, – самым невинным голосом отвечал Давид. – Нас Михаил Петрович просил подготовлять черчение к экзаменам… – И глаза маленького Флуга приняли самое ангельское выражение.
– А где же?.. – Лицо Ирода приняло недоумевающий растерянный вид, и он взглянул на Собачкина безнадежным взглядом. Последний позеленел.
– Они ее стерли! – более простонал, нежели произнес латинист.
– Какая гадость! Какая мерзость! И это будущие студенты! Да, вы… да вы… хулиганы… а не гимназисты… На три часа после уроков остаться в классе! – тоном командующего начальника отряда выкрикнул инспектор… – Я донесу его превосходительству! – И, подрыгивая фалдочками, «Тень отца Гамлета» исчезла за дверью так же быстро и неожиданно, как и появилась.
За нею исчез и взбешенный латинист. Класс огласился долго не смолкаемым хохотом. «Купидон» перебегал от парты к парте, умоляя успокоиться, так как у седьмых по соседству был урок алгебры в этот час, но его никто не слушал.
Черноглазый «Мурза» бегал за ним по пятам и гудел под самое ухо классного наставника:
– Василь Васильевич, я знаю одну хорррошую сказку. Жил на свэте мужык. Было у нэго трое сына: одын сын умен, второй сын так и сяк, а трэтый сын Собачкин дурак! Хорошая сказка!
– Я вас запишу за непочтительность! – неожиданно взвизгнул Купидон.
– Жарте… Все одно, через тры мэсэца я с вами кланяться нэ буду! Вот чэловэк!
И, сверкая своими черными глазищами, Соврадзе пошел на свое место, как ни в чем ни бывало.
В этот день нечестивые ариане праздновали полную победу.
Шавку «разыграли» под орех.
Бенефис удался на славу…
Глава XII
Любимец и Опальный
В субботу был урок русской словесности. Им и заканчивался восьмой и последний год гимназической жизни. Как раз приятная перспектива «заканчивания» пришлась на долю всеми любимого преподавателя русского языка, Андрея Петровича Рагузина или Божьей Коровки, по прозвищу гимназистов.
Нечего и говорить, что об ответах заданного не было и речи. Раскрытый томик Гоголя, принесенный Рагозиным с собою, лежал перед ним на кафедре, а «словесник» с неподражаемым искусством читал вечно юного и прекрасного творца «Мертвых душ». Всем он был давно знаком, незаменимый Гоголь. Все его читали еще в бытность свою «саранчою», но одинаковый восторг и неугасаемый интерес к тонкому художественному юмору и неожиданным, быстрым, как зарницы, поэтическим оборотам писателя-поэта, ни на минуту не прерывался в классе.
Ариане то дико и бешено гоготали на всю гимназию, то притихшие, зачарованные, уставившись глазами в рот чтеца, сидели, не двигаясь, чуть дыша, охваченные с головы до пят чарами неподражаемого таланта великого художника.
Но вот прозвучал звонок… Александр Македонский своей огромной ручищей распахнул дверь к «господам старшим», как он почтительно называл восьмых, и чтение прервалось. Исчезло очарование… Умчались чары… Будничная проза жизни заглянула в окно класса и напомнила о себе…
Учитель встал, еще не остывший от охватившего его самого поэтического восторга…
– Речь! Речь! – пронеслось по классу. – Андрей Петрович, вы должны нам на прощанье речь сказать… Конец ведь! – послышались молодые взволнованные голоса гимназистов.
– Правда, должен, – согласился учитель, – но после этого, – тут он кивнул значительно головою на томик Гоголя, – все покажется бледным, тусклым, некрасивым. Поэтому от речи я воздержусь… А вот скажу вам одно, братцы! Жили мы с вами восемь лет… Жили светло и дружно, душа в душу. Не ссорились и не скандалили и, мнится мне, любили друг друга. Поэтому расставаться мне с вами жаль. Славные вы ребята, не во гнев вам будь это сказано, и от души желаю вам успешно подвизаться и под кровлею университета, этой земли Ханаанской для каждого из вас. Прощаться я с вами не стану, потому что расставаться не хочу… Скажу вам еще: есть у меня три комнатки в Галерной Гавани, у черта на куличках, и есть старая кухарка Матрена и огромнейший самовар. Так вот, если когда с кем (всяко в жизни бывает) случится что… Ну, там туго насчет еды или крова придется – вали прямо, ребята, ко мне… Божья Коровка такому жильцу всегда рада будет! А теперь до свиданья, сорванцы! Не обижайтесь за такое название, родные вы мои, я вам в деды гожусь.
И добрый старик, смахнув слезу, почти опрометью кинулся из класса.
Трудно описать, что произошло в эту минуту у ариан. Под внешностью юношей, взрослых молодых людей, скрывались еще полудетские сердца, отзывчивые, чуткие на всякого рода проявление ласки. Казенное, официальное к ним отношение придирчивых и желчных преподавателей-формалистов еще более подчеркнуло весь гуманизм, всю симпатичность натуры старого словесника. Поэтому ничего не было удивительного, что ариане, как бешеные, точно по команде, повскакали со своих мест, и со счастливыми, растроганными, взволнованными лицами бросились за Божьей Коровкой. На пороге его догнали…
– Андрей Петрович, родной!..
Двадцать пар рук протянулись к нему… С ласковой осторожностью его подняли на воздух и вынеся в коридор, начали качать, дружным хором напевая:
– Слава Андрею свет Петровичу, слава!
Мягко и нежно чуть подбрасывали сильные молодые руки тщедушную худенькую фигурку старого учителя… Мягко и нежно звучали молодые голоса… И сияли ласково жаркие молодые очи…
Наконец бережно опустили на пол Божью Коровку.
– Вот чэловэк! Вэк тэбя не забудем, душя моя! – совершенно забывшись, горячо выкрикнул Соврадзе, всегда пылкий, необдуманный и горячий, как никто.
– Вы такой особенный! Такой дорогой! – звенел чахоточный голос Флуга, и черные еврейские глаза юноши с немым обожанием впивались в старика. А старик-словесник сам казался не менее растроганным, нежели его юные друзья. Он пожимал руки, кивал и улыбался направо и налево.
Наконец выбрался из тесного круга своих рьяных почитателей и, взволнованно крикнув: «До свиданья, друзья! На экзамене свидимся!», – исчез за дверью учительской.
– Шут знает, как хорошо! – вырвалось из груди Миши Каменского, – кажется, весь мир бы обнял одним размахом!
И его блестящий молодым задором взгляд обвел товарищей.
– И Шавку даже? – со смехом спросил кто-то.
– Ну это, брат, маком! – засмеялся Миша. – Этот номер не пройдет!
– А вот и он, господа!.. Легок на помине.
– А что если… Давайте его качать, братцы!
– Жарьте!
– Только по-особенному.
– Ну само собой!
– Эх-ма! – И, быстро перемигнувшись лукаво и значительно, вся орава ариан в один миг окружила показавшегося в эту минуту на пороге учительской преподавателя латыни.
– Данила Дмитриевич! Прощайте! Навсегда! На экзамене только увидим! За все спасибо! – полетело со всех сторон на Шавку недобрыми, сдержанными, недоговаривающими чего-то голосами.
Он подозрительно покосился… Желчное лицо его вызвало какое-то подобие улыбки.
– Прощайте, госпо…
И не договорил… Десятки рук подхватили его и высоко подбросили кверху. Подбросили и приняли на… кулаки. Потом еще и еще… Снова подбрасывали и принимали… Латинист летал, как мячик, в воздухе… Вверх и вниз… Вниз и вверх… Только фалдочки развевались, да побагровевшее от бессильного гнева и боли лицо мелькало то вправо, то влево…
А молодые, странно спокойные голоса выводили «славу».
Измятый, избитый толчками, Шавка взлетал все выше и выше. И плохо бы пришлось злополучному преподавателю, если бы, на его счастье, не показался на конце коридора инспектор в сопровождении Купидона, оба вооруженные гимназическими кондуитами и карандашами.
– Что за дикая выходка! Оставить! Пустить! Сейчас же пустить, я вам говорю! – неистово завопил на всю гимназию Луканька. – Или я записывать буду.
Ариане нехотя повиновались… Истерзанный, всклокоченный Шавка получил наконец желанную свободу. Очутившись на земле, он повел на своих мучителей налитыми кровью глазами и, потирая ушибленные до синяков места, произнес зловеще:
– Мы еще увидимся! Да-с! Увидимся и сочтемся!
И поспешно скрылся за дверь.
– Вот чэловэк! Его чэствуют, а он лягается! – комически произнес Соврадзе, разводя руками.
– А вы опять с украшением, господин Соврадзе? – ехидно прошипел у него под ухом голос инспектора, и его костлявый палец устремился по направлению бородки молодого кавказца, красиво пробивавшейся под полной, ало-красной губой. – Сбрить ее! Слышите! – заключил он свирепо. – Не знаете гимназического устава – стыд и срам!
– Да что же я подэлать могу, когда я ее брэю, a она растет, я опять брэю, а она шельма опять растет! – Делая умышленно глупые бараньи глаза, снова развел руками Соврадзе.
– А ты ее выжги, душенька, – посоветовал позади кто-то.
– Сбрить! – еще раз лаконически отрезал инспектор. – А то я сам поведу вас в парикмахерскую и обрею насильно…
– Jus pleni domini et proprietatis![9] – послышался в задних рядах чей-то протестующий голос.
– Комаровский, вы? Без проповедей прошу покорно! – взвизгнул Луканька, как мальчик, подпрыгивая на каблуках. – А отчего у вас пуговицы нет на куртке, позвольте вас спросить? – прищурившись на высокого Комара, неожиданно и злорадно присовокупил инспектор. – Пренебрежение к стенам того учебного заведения, в котором вы имеете честь воспитываться! да-с! Умышленное пренебрежение-с, – дребезжал его старчески колеблющийся голос.
– Ничуть не из пренебрежения, Матвей Илларионович, просто Авдотья, скверная баба, пришить забыла… Ее пренебрежение выходит, а не мое! – со своим обычным мрачным унынием заключил Комаровский.
Гимназисты фыркнули. Инспектор, как говорится, зашелся…
– Какое мне дело до вашей прислуги и ее рассеянности… Неряшество в вас, а не в ней. Ее в кондуит не запишешь, – свирепо напустился он на Комара.
– Не запишешь! – с тем же безнадежным унынием согласился тот под дружный взрыв хохота окружающих его гимназистов.
Луканька только рукой махнул безнадежно и, сердито фыркнув, поплелся вдоль коридора.
Он вспомнил вовремя, что сегодня последний день его власти над сорванцами и что истории затевать, во всяком случае, не стоит. А «сорванцы» шумной оравой «выкатились» в швейцарскую, оттуда – на улицу, всю залитую праздничным сиянием солнца и весны. И разлились звонкими ручейками по улицам чопорной столицы, оглашая ее молодым веселым смехом и бурной, ничем не сдерживаемой радостью.
Последний учебный год кончился.
Одной ногой они уже были на свободе.
Глава XIII
По разным дорогам
Юрий шел, понурый и словно пришибленный по дороге к дому. Ничто, казалось, не радовало его: ни ясное, как улыбка ангела, весеннее небо, ни горячее весеннее солнце, ни этот воздух, насыщенный ароматом чуть распускающейся весны…
Неделю тому назад он был у директора с просьбою рекомендовать его полтавскому помещику. О, как вытаращил на него глаза Мотор, какое бесконечное недоумение разлилось по его лицу, когда юноша выложил свою просьбу!
– Охотно! охотно исполню все, – запыхтел Анчаров, – я аттестую вас с прекрасной стороны, как лучшего ученика и гордость гимназии, но… но… подумали ли вы о том, чего вы лишаетесь, отбрасывая самую надежду на поступление в высшее учебное заведение, юный друг мой?
– Я все обдумал, господин директор.
– И…
– И твердо стою на своем, – прозвучал холодный ответ.
О, чего только стоило ему быть таким бесстрастным в ту минуту!.. Это знает только одна его душа… Его душа, наболевшая и намаявшаяся, постаревшая на десять лет, по крайней мере, со дня приговора петербургской знаменитости над его матерью!
Но «походом» к директору не кончились еще его мученья. Надо было открыться матери и товарищам. Последним он брякнул сразу:
– Не хочу в университет – иду на место.
И никто не удивился, не полез с расспросами. Очевидно, умница Флуг предупредил всех заранее. Уже за несколько дней до этого с ним обращались как-то бережно и чутко, как с человеком, только что перенесшим тяжелую утрату, или как с труднобольным. Только, когда директор торжественно вручил ему условленные полторы тысячи, переведенные по телеграфу помещиком, верзила Самсон подошел к нему и, мягко ударив по плечу своей толстой лапищей, произнес:
– Эх, брат, кабы не боялся я твоей гордости дьявольской, предложил бы тебе у меня покредитоваться; ведь у батьки моего три магазина да два дома имеется… Взял бы малую толику от меня, Юрочкин, a? И к шуту твоего помещика, право. А когда у тебя будут деньги, сосчитаемся.
– Спасибо, Бабаев, – хмурясь и кусая губы, произнес Радин, – но сам знаешь, «сосчитываться» мне будет не из чего… А милостыни я не беру…
– Шут знает, что за гордыня в тебе сидит сатанинская! – с непритворной злобой произнес гимназический Самсон, – а еще товарищ прозывается… От одолжения как бес от ладана… Свинья ты, я вижу, Каштанчик, и больше ничего!
Еще труднее было Юрию говорить с матерью…
Когда она узнала, чем жертвует для нее ее Каштанчик, с Ниной Михайловной буквально сделалось дурно. Как безумный, ринулся Юрий за Кудряшиным и вдвоем с Васенькой они долго приводили в чувство несчастную женщину.
Только горячие ласки сына, только его нежная чуткость и стойкое мужество смогли убедить Нину Михайловну принять его жертву.
Целуя нежные, бледные пальцы матер, заглядывая с бесконечной любовью в ее васильковые глаза, Юрий говорил горячо, много и пылко. Он говорил о том, что жизнь его «мамуси» – его жизнь… Что все равно, если она будет болеть и таять, ему не до университета, не до ученья… А через три года он может поступить туда… Ведь не старик же он будет, в самом деле, в двадцать-то лет с лишком? Говорил еще о том, что нестерпимо устал после восьмилетней зубрежки и что ему необходимо проветриться и отдохнуть, во что бы то ни стало, на вольном воздухе в помещичьей усадьбе.
Нина Михайловна слушала своего Юрку с печальной улыбкой на бледном от волнения лице и все покачивала своей рано поседевшей головою…
Она знала, что был университет для ее ненаглядного Каштанчика. Знала, как пылко и горячо мечтал о нем ее мальчик. И сердце ее сгорало от жалости, любви и муки, обливаясь кровью за свое сокровище, за своего Юру…
И только одна фраза, вырвавшаяся вместе с глухим воплем из груди Юрия, заставила больную женщину пойти и согласиться на все!
– Мама! а если ты умрешь здесь, что станется со мною?
И зарыдал неудержимо.
Нина Михайловна с криком боли и любви упала в его объятия.
Судьба ее Юрки, ее Каштанчика была таким образом решена: он поступал на место к помещику Суренко, богачу Полтавского края…
… … …
– Мамочка! Ты уже готова?
– Готова, милый!
– Так едем!
Тяжелый вздох вырвался из груди Нины Михайловны.
– Уже! Как скоро!..
Вздохнул и Юрий… Он стягивал ремнями дорожный саквояж матери и делал вид, что поглощен с головой в свою работу… Его синие глаза темнели, как небо перед грозой… Голос вздрагивал… руки тряслись…
Стоял май, радостный и душистый… В окно с навязчивой и красивой грацией льнули цветущие липы, чудом выросшие на заднем дворе под окнами грошовой квартирки… Льнули и дышали ароматом пряным, медовым, и остро ударяющим в голову…
Вошла хозяйка, глуховатая, добродушная старушка, вошла и остановилась с безмолвным благоговением, глядя на сына и мать… Она их любила и привыкла к ним, как к родным, за эти семь лет совместной жизни.
– Вы о красавце-то своем не горюйте, – заговорила она благодушным ворчливым голосом, обращаясь к Радиной, – пока что… сохраню в целости во время экзаменов, а там вскорости и улетит наш сокол! – И старушка смахнула слезу с ресницы.
– Поберегите его, Софья Ильинишна, голубушка! – И васильковые глаза Радиной с молящим выражением уставились в доброе, сморщенное, как печеное яблоко, маленькое личико хозяйки.
– Поберегу, матушка! Не сомневайтесь…
– Главное, учиться ему не давайте по ночам…
– Не дам, голубушка вы моя!
Обнялись и крепко поцеловались обе женщины – простая, необразованная хозяйка-унтерша, вдова какого-то сторожа солдата, и урожденная графиня Рогай, обе охваченные одним общим волнением скорой разлуки.
– Возвращайтесь, матушка, красной да толстой, чтобы в двери не влезть, – нехитро пошутила хозяйка, маскируя слезы, душившие ей горло и готовые вырваться наружу. Губы Нины Михайловны судорожно подергивались…
Сын поспешил прервать эту сцену….
– Пора, моя дорогая…
Нина Михайловна засуетилась. Стала дрожащими руками прикреплять шляпу, круглую, скромную, с развевающимся темным вуалем, удивительно молодившую ее и без того молодое под белыми, как снег, волосами лицо.
Поцеловались еще раз с хозяйкой. Обнялась как сестры. Юрий подал одну руку матери, другою захватил чемодан и бережно стал сводить ее с лестницы.
Вот и двор, и ворота, и улица, крикливая и шумная, как всегда… У ворот уже ждет извозчик.
– На Варшавский вокзал! – звенит словно не его, Юрия, а чей-то чужой, вибрирующий голос.
На извозчике они оба тесно прижались друг к другу. Точно боялись оба, что судьба разъединит их раньше времени, не даст договорить чего-то важного, значащего, дорогого…
– Скоро. Скоро! – сверлило и точило невидимое жало в груди матери.
– Скоро! Скоро! – болезненно сильно и бурно выстукивало сердце сына.
Вот и вокзал… Словно в тумане, соскочил с извозчика Юрий, бережно помог сойти матери. Снова подал ей руку и ввел в зал. Здесь, в уютном уголку, вдали от любопытных взоров, они просидели до второго звонка, говоря без слов, не отрываясь взорами друг от друга, печальные, скорбные и покорные своей судьбе…
Погребальным звоном отозвался в сердце Юрия неожиданно звякнувший роковой звонок.
– Как скоро! Боже мой, как скоро промелькнуло время. А еще надо так много, так много сказать.
На платформе сутолока. В вагоне темнота, жуткая и таинственная. В темноте слышится говор, оживленный и бойкий, многих голосов.
– Пиши! – шепчет он тихо матери, улучив удобную минутку и прижавшись к ней, как котенок. Так в далеком детстве он прижимался к ней, обиженный и недовольный чем-либо.
Эта молчаливая ласка сжала тисками сердце матери.
– Каштанчик! Голубчик! Родной мой! Деточка! – прорыдала несчастная женщина, и мать с сыном обнялись горячо, судорожно, крепко.
– Пойми… я приняла твою жертву, – лепетал в следующую минуту, вздрагивая и обрываясь, потрясенный голос Радиной… – потому только… что… что боюсь, иначе разлука будет вечной… ребенок мой дорогой!
Слезы закапали на щеки, губы и глаза Юрия…
Ее слезы!..
Ему хотелось упасть к ее ногам и целовать их и рыдать неудержимо, но кругом были люди, и он поневоле сдержался…
– Я не буду говорить тебе, как и что ты должен без меня делать, – по-прежнему вздрагивал и обрывался ее милый голос, – мой Юрий… моя гордость не сделает ничего дурного… Он светлый и чудный, так ли, мой мальчик!
– Моя мама, дорогая!
О-о, как болезненно сжимается его горло… Еще минута, и подступившие к нему рыданья задушат его…
– Я буду писать тебе два раза в неделю… Солнышко мое… Бога ради, не надрывайся работой, береги себя… А когда будешь на помещичьем хуторе, пиши все, все… сокровище мое!
– Все, мама.
– Всю правду?
– Всю!
Нина Михайловна отстранила от себя немного сильную стройную фигуру сына и впилась своими васильковыми глазами в его лицо.
Вот он, ее красавец! Честный, благородный, смелый и прекрасный ее мальчик. И подумать только, три года она не увидит его!
Три года! Когда она вернется, это нежное, красивое лицо покроется первым пухом растительности. Над гордым ртом появятся усы… Три года! Боже мой, три года!
И чтобы утишить немного бурное, клокочущее чувство глухой тоски, она заговорила снова, прижавшись к сыну…
– В Лугано уже лето в разгаре… Пожалуй, апельсины зреют… Синее небо… солнце… горы… и розы… розы без конца…
– Да… да… розы… – повторяет он машинально, как во сне…
Третий и последний звонок заставляет их вздрогнуть и затрепетать обоих.
Оба бледнеют. Рука матери судорожно сжимает шею сына. Другая поднимается сложенная крестом…
– Господь с тобою!
– Мама!
– Сокровище мое единственное!
И прощальный поцелуй, долгий и томительный, как смерть, как мука, как гибель, беззвучно тает на его щеке.
– О, мама!
Больше ничего нельзя сказать. Рыданья не дают. Слезы душат… Кондуктор просит провожающих выйти.
Он на платформе… у ее окна… сам не помнит, как выскочил в последнюю минуту. В окне она, ее красивая, вся седая, точно серебряная головка под круглой шляпой…
– Мама! Мама! Мама!
Поезд трогается… Васильковые глаза, залитые слезами, двигаются, уходят от него… Дальше, дальше…
– Юрочка… Детка… ребенок мой, дорогой! – рыдает она и крестит его из окна. Быстрым, быстрым судорожным движением.
Поезд идет скорее… Он бежит за вагоном, потрясенный, не видящий ничего и никого, кроме ее печальных, любящих, плачущих глаз.
Стоп…
Нельзя идти дальше… Конец платформы…
Кто-то грубо удерживает его… Он останавливается, растерянный, взволнованный, потрясенный… Поезд ушел далеко… Завернул за поворотом… Окна не видно… ее тоже…
– Мама! – глухо срывается с его уст, и он закрывает лицо руками…
О, какая смерть, какая мука! Одиночество мучительными тисками сжало его душу. Он почувствовал себя сразу маленьким и ничтожным и несчастным, несчастным без границ… Сердце сжималось почти до физической боли. Хотелось упасть на землю и рыдать, рыдать без конца…