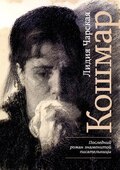Лидия Чарская
Юркин хуторок
Около самого хутора их встретил испуганный и встревоженный Юрий Денисович, прислуга и дети. Последние, как и предполагал Фридрих Адольфович, вернулись на хутор и рассказали отцу о несчастье, случившемся с Юриком. Тот выбежал навстречу сыну, сам не менее бледный, нежели Юрик, все еще без чувств лежавший на руках выбившегося из сил Гросса.
Мальчика тотчас же понесли в его комнату и уложили в постель.
Приехавший к вечеру из уездного города доктор нашел у Юрика вывих плеча и легкое сотрясение мозга.
Плечо вправили, но бедный мальчик страдал при этом невыносимо. Его непослушание обошлось очень дорого на этот раз. Бедный Юрик заболел и должен был оставаться несколько дней в постели.
* * *
Пятый день лежал уже Юрик. Вывихнутое плечо нестерпимо болело. Мальчик все время ныл и капризничал вследствие своей болезни.
– Фридрих Адольфович, – звал он поминутно гувернера, – дайте мне пить! Неужели же вы не видите, как засохли мои губы! Я хочу пить! Пить! Пить! Пить!
– Но, милый мальшик! Ви уже випили два стакан! Так много пить вредно. И доктор запретил вам это, – слабо возражал больному добрый Гросс.
– Но доктор ничего не понимает, – раздражаясь, говорил Юрик. – Дайте мне пить, вам говорят…
– Вот, вот питье! Пейте, только не вольнюйтесь; для вас вредно вольноваться, – торопливо успокаивал его Фридрих Адольфович, поднося питье к действительно запекшимся от жара губам мальчика.
– Да разве это питье? Это бурда какая-то! – чуть не плача, кричал Юрик и выплескивал лимонад из стакана прямо на одеяло и на подушку, глядя в лицо гувернера сердитыми, блестящими от гнева глазами.
– Ай, ай, ай! – покачивая головою, кротко увещевал его тот. – Разве можно так поступать! Ай, ай, ай! Ви облил себя и все кругом из стакана!
И он с чисто ангельским терпением менял наволочки и одеяло на постели больного, и ни одного слова упрека или неудовольствия не срывалось с его губ.
Юрик с каждым днем капризничал все больше и больше, всячески издеваясь над бедным Фридрихом Адольфовичем. Но тот сносил все капризы и прихоти больного, не выказывая ему своего нетерпения и неудовольствия. И только когда капризы эти становились положительно невыносимыми для бедного Гросса, он шел к окну, на котором стояла клетка с его другом-попугаем, и отводил душу, как говорится, в разговоре с любимой птицей.
Об отъезде своем Гросс уже не думал. Как только случилось несчастье с Юриком, добрый немец отложил этот отъезд на неопределенное время.
– Поправится мальшик, я и буду уехаль, – говорил сам себе добряк, – а покудова он заболевайть, грешно уходит от его.
К счастью, теперь доброму Гроссу было меньше забот с остальными детьми, и он мог все свое время посвящать больному. Сережа и Бобка, испуганные болезнью Юрика, заметно притихли и уже не думали об обычных шалостях и проказах. Мая была сильно сконфужена, чувствуя свою вину в этом злополучном происшествии, и не показывалась на хуторе. В доме стояла тишина, какая всегда бывает там, где находятся больные.
А Юрик все капризничал и капризничал без конца. И чем заметнее поправлялось его здоровье, тем бессмысленнее и чаще были его причуды.
По ночам, когда ему не спалось, он бесцеремонно будил Фридриха Адольфовича, который спал теперь в его комнате на месте Сережи, переведенного к Лидочке и Бобке, и заставлял его рассказывать сказки.
Фридрих Адольфович, измученный за день вечной возней у постели Юрика, безропотно вставал среди ночи и всячески развлекал своими рассказами больного.
И каких только сказок не рассказывал Юрику добрый старик! В них говорилось и о колдунах, и о добрых волшебниках, о феях и карликах, оборотнях и ведьмах. А Юрик все оставался недовольным, все ему не нравилось, все раздражало его!
Стоял жаркий июльский день. Юрик чувствовал себя значительно лучше, вывихнутое плечо почти не болело и только общая слабость не позволяла ему еще встать с постели. В саду под его окнами играли дети с пришедшей из лесного домика Маей. Их веселые голоса звучали особенно радостно в этот день или так, по крайней мере, казалось бедному, прикованному к постели Юрику. И это страшно раздражало и волновало выздоравливающего мальчика. Юрику было досадно и обидно, что он сам не может бегать и играть с детьми, и поэтому сегодня он особенно мучил своими причудами бедного Фридриха Адольфовича.
– Расскажите мне новую сказку, – тянул он недовольным голосом.
И когда добрый Гросс начал рассказывать самую интересную сказку, какую только знал и помнил, Юрик перебил его на полуслове, громко крича сердитым голосом:
– Какая гадкая сказка! Фи! Неужели вы ничего не знаете лучшего?
Не успел добряк-немец ответить что-либо своему воспитаннику, как с окна, где стояла клетка попугая, прозвучала та же самая фраза, произнесенная пронзительным, резким голосом.
– Какая гадкая сказка! Фи! Неужели вы ничего не знаете лучшего?
Это попка, слышавший уже не раз одну и ту же фразу, запомнил ее и теперь очень удачно передразнил ею Юрика.
Фридрих Адольфович не мог не улыбнуться на выходку своего любимца.
– А-а! Вы смеетесь надо мною, и вы и ваша гадкая птица! – выходя из себя от гнева, вскричал Юрик. – Не хочу ее. Уберите ее отсюда! Выпустите ее из клетки в сад! Она мне надоела, она мне мешает! – И он неожиданно залился капризными, злыми слезами.
– Ну, корошо! Ну, корошо! Я относиль его в мой комнат! – засуетился испуганный слезами мальчика Фридрих Адольфович.
– Нет! Из комнаты вашей мне слышен его противный голос! – все громче и громче кричал Юрик. – Пустите его в сад! В сад пустите! Видеть его не могу, противного! Не могу! Не могу! Не могу!
– Корошо! Корошо! – успокаивал Гросс расходившегося мальчика. – Я буду его выпускаль в сад! Не вольнюйтесь ви только, не тревожьтесь! Вам вредно это, ви больны.
И, поспешив к клетке, он вынул оттуда попку и пустил его из окна в сад. И последний, важно нахохлившись, с гордо поднятой головой, важно зашагал по дорожке. А Юрик, довольный тем, что настоял на своем, разом успокоился и стал внимательно слушать сказку о «воздушном замке», прерванную его неожиданным капризом.
Между тем у бедного Фридриха Адольфовича сердце ныло от страха за своего пернатого питомца. Выпущенный на свободу попка мог свободно уйти и заблудиться где-нибудь за хутором; наконец, его могла заклевать домашняя птица, разорвать собака и мало ли еще какие ужасы грозили попугаю, выпущенному впервые в сад из клетки.
И страхи Фридриха Адольфовича оправдались. Едва только он дошел в своей сказке до того места, когда принц Солнце поссорился с принцессою Луною, неожиданно раздались отчаянные крики в саду.
Кричали не только дети, кричал пронзительно и тоскливо хорошо знакомый старому гувернеру голос. Бедный Фридрих Адольфович даже побелел от ужаса. Он со всех ног бросился к окну и, высунувшись в сад, громко спрашивал, что случилось.
В ту же минуту на крокетной площадке, где играли дети, прозвучал плач Бобки, крик Митьки и взволнованный голос Сережи, приказывающий кому-то:
– Неси к Фридриху Адольфовичу, прямо к нему неси!
– Боше мой! Да што ше слючиль? Што слючиль? Што слючиль наконец? – шептал в страхе испуганным голосом Гросс.
– Ах, ничего не случилось! – раздраженно проговорил Юрик. – Просто кто-нибудь расквасил себе нос и…
Юрику не пришлось докончить своей фразы. Дверь с шумом отворилась, и в комнату вошли дети: Сережа, Бобка и Мая с Митькой во главе. На руках Митьки билось и трепетало маленькое окровавленное тельце попугая со свернутой набок и бессильно повисшей хохлатой головкой.
Фридрих Адольфович со всех ног бросился к Митьке, выхватил у него несчастную птичку и со стоном прижал ее к своей груди. А Митька между тем рассказывал, широко размахивая руками и тараща свои и без того вытаращенные глаза:
– Они шли… – говорил он, торопясь и захлебываясь, указывая пальцем на умирающего попку, – они шли, значит, а она… то есть кошка, значит, как шастнет из-за угла-то… Ну, я и того… камнем… А она… задави ее телега, как хватит… да бегом, да бегом… А у них уж, глядишь, и глазки закатились и головка на сторону… Известно, кошка… ни кто другой… Ну, тут я опять камнем… Ей в ногу угодил… На трех лапах ушла, а их бросила поперек дорожки… Мы и подняли, значит…
– О, боше мой! Боше мой! – прошептал с тоскою Фридрих Адольфович и с укором взглянул на Юрика.
Юрик лежал бледный и глубоко потрясенный этой сценой, отлично сознавая свою вину и перед Гроссом, и перед его несчастным любимцем. Умирающий попка еще слабо трепетал своими крылышками. Его круглые глазки смотрели прямо в глаза своему хозяину.
Вот он еще раз вздрогнул и, закатив глазки, затих без движения.
– Мой бедний друг! Мой бедний попагайчик! – воскликнул Фридрих Адольфович с тоской и выбежал из комнаты с птицей на руках…
– Кто это плачит? Юрик, ви? – раздался среди ночной тишины голос Фридриха Адольфовича.
Не получая ответа, он тотчас вскочил с постели и, подойдя к кроватке Юрика, с озабоченным видом наклонился над мальчиком. Вмиг две горячие детские ручонки схватили его руку и поднесли к губам, обливая ее слезами.
– Фридрих Адольфович! Милый, дорогой Фридрих Адольфович! – вырвалось с рыданьем из груди Юрика. – Я, негодный, гадкий, скверный мальчишка, но я даю вам слово исправиться! Я не буду больше! Никогда в жизни не буду! О, как я был зол! Как много неприятностей причинил я вам! Простите меня! Ради Бога простите! Или нет, не прощайте лучше! Сердитесь на меня! Браните меня, только не уезжайте от нас! Пожалуйста, не уезжайте! Дайте мне возможность загладить все мои ужасные проступки перед вами, доказать вам, что я глубоко раскаиваюсь за них! Вы не уедете, нет? Умоляю вас, скажите.
– О, дитятко мое! – произнес растроганным голосом добрый Гросс и крепко обнял и поцеловал мальчика.
– Не целуйте меня! Я не стою ваших ласк… Вы добрый, хороший, а мы дурные и гадкие, – все еще плача, шептал Юрик. – Но теперь я исправлюсь и братьям велю быть иными… то есть Сереже… Бобка и без того лучше нас всех… И Мае скажу… Ах, зачем, зачем я не стал хорошим раньше – тогда бы бедный попка остался жив!
– Мальшик мой дорогой, – произнес Фридрих Адольфович, глубоко растроганный его словами, – если смерть попагайчика помогиль исправить тебе твой характер и перестать делать злой шалости, то пускай умер попагайка и я вместо ево нашел хорошего друга в моем мальшике. Не так ли?
– О, да! Друга, именно друга! – вскричал Юрик с горячностью. – Но вы не уедете от нас, ведь нет? Милый, дорогой, хороший Фридрих Адольфович.
– Нет, нет, никуда я не буду уехаль от тебе! – произнес последний ласковым голосом. – Ведь я любиль всех вас! Я знал, что ви хотя и большой шалюни, но добрый, сердечный дети. И я шастлив, что не ошибся.
В эту ночь Юрик уснул крепким и сладким сном на руках своего нового друга Фридриха Адольфовича.
ГЛАВА 6
Нежданный гость. Маленький герой. Праздник на хуторе. Неожиданное счастье
Юрик сдержал свое слово: и он, и его братья теперь решили всячески ублажать и радовать добряка Гросса. Хотя Юрик еще не выздоровел вполне и оставался в постели, но старался всеми силами облегчить доброму Гроссу его уход за ним. Капризы и требования Юрика разом прекратились, и из упрямого, настойчивого и требовательного больного он превратился в трогательно покорного ребенка. Бобка и Сережа, видя такое смирение со стороны своего «главаря» Юрика, стали, по своему обыкновению, подражать ему во всем.
– Чтой-то наши сорванцы словно угомонились? – недоумевала няня Ирина Степановна, подозрительно поглядывая на детей.
Однажды утром мальчики сидели на своем любимом месте в саду под старой липой; тут же подле них лежал и Юрик, вынесенный на солнышко вместе со своей постелью.
Фридрих Адольфович рассказывал по обыкновению одну из своих интересных сказок, которых он знал бессчетное количество, когда неожиданно по дороге за оградой сада застучали копыта лошадей, и коляска, запряженная взмыленной тройкой, остановилась у ворот усадьбы.
– Это папа вернулся с поля! – вскричал Бобка.
– Нет, не папа, папа поехал в бричке, а это чужой экипаж, да и лошади чужие, – возражал ему Сережа.
Юрик, поднявшись на локте, старался разглядеть находившегося в коляске господина.
Вот незнакомый господин вылез из коляски и вошел в ворота. Это был еще молодой человек с загорелым лицом, с черной бородкой, одетый в изящный дорожный костюм, с сумкою через плечо, какие обыкновенно носят путешественники.
Едва только незнакомец успел приблизиться к скамье под липой, как Фридрих Адольфович вскочил со своего места и с громким радостным криком обнял приезжего.
– Витенька мой! Князенька мой! Дрюшочек мой! Не обмануль, приекаль! – лепетал он, чуть не плача от радости и целуя молодого человека.
Вновь прибывший казался не менее растроганным, нежели Фридрих Адольфович. Он ласково трепал по плечу Гросса, называл его «милым Фриценькой» и смотрел на него радостными, счастливыми глазами. Потом, когда первый порыв восторга понемногу утих, господин Гросс подвел незнакомца к детям и проговорил дрожащим от волнения голосом:
– Вот, Витенька, мой новие воспитанники! Полюбите их, если можно!
Князь Виталий (это был он) перецеловал всех трех мальчиков Волгиных.
– Очень рад, очень рад познакомиться, – говорил он любезно, сияя своими добрыми темными глазами и милой, ласковой улыбкой.
Вскоре затем приехал Юрий Денисович с поля и очень обрадовался при виде гостя.
– Мы так много слышали о вас хорошего от Фридриха Адольфовича, – проговорил он любезно, – что уже успели полюбить вас заочно!
За обедом князь Виталий рассказывал, как он учился за границей, жил там все эти шесть лет. Говорил о своем отце, который ждет его в Париже.
– Разве вы не надолго к нам приехали? – спросил Юрий Денисович молодого князя.
– О, это будет зависеть от моих дел, – ответил тот и, незаметно переглянувшись с Фридрихом Адольфовичем, остановил взгляд на слепой Лидочке.
Вообще Сережа и Бобка заметили сразу, что гость подолгу смотрел на их слепую сестрицу, точно изучая ее лицо.
После обеда Фридрих Адольфович, гость и хозяин дома выслали детей из столовой и, плотно закрыв двери, о чем-то долго и тихо совещались.
Мальчики побежали к Юрику, обедавшему у себя, лежа на постели в детской, и таинственно сообщили ему об этом.
Юрик долго ломал голову, о чем бы могли так долго говорить старшие, но ничего не мог придумать на этот раз.
Одна только слепая Лидочка, казалось, мало обращала внимания на то, что вокруг нее происходило. Она после обеда тихонько побрела на свое излюбленное место под старой липой, где погрузилась в задумчивость по своему обыкновению, чутко прислушиваясь к пению птичек и трескотне кузнечиков, прыгающих в траве.
Девочка сидела так довольно долго, до тех пор, пока не послышались шаги на дорожке и ласковый голос отца не окликнул ее:
– Ты здесь, моя деточка? А мы с князем искали тебя повсюду. И нежная отцовская рука легла на золотистую головку слепого ребенка.
– Вы ничего не видите, дитя мое? – спросил ее ласковый голос молодого доктора. – Но ведь было время, когда вы видели природу и любовались ею?
– Да! Но это было так давно! – произнесла со вздохом Лидочка. – Теперь я начинаю уже позабывать ее немного, и что бы я ни дала на свете, чтобы увидеть ее снова!
– И вы увидите ее с Божьей помощью, дитя мое! – произнес с уверенностью князь Виталий. – Ведь вы позволите мне подлечить ваши больные глазки? Вы согласитесь перенести неприятную, тяжелую операцию, чтобы потом быть здоровой и зрячей, как другие дети?
– О да, я сделаю все, что хотите, – произнесла горячо слепая, – только верните мне зрение, добрый доктор!
– Отлично! – произнес дрогнувшим голосом князь. – Завтра вы с папой переселитесь со мной в город, и мы начнем ваше лечение. Но не говорите ни слова об этом братьям. Я верю, что с Божьей поиощью лечение удастся, и твердо надеюсь на Его помощь, но лучше, если никто из детей не будет знать об этом до поры до времени…
– Я сделаю так, как вы хотите! – произнесла маленькая слепая с трогательной покорностью в голосе.
В тот же вечер детям было объявлено, что их отец и Лидочка уезжают в город, где у Юрия Денисовича накопилось много дел по хутору. А наутро, нежно перецеловав своих сыновей, Юрий Денисович поручил их всех надзору Гросса и нянюшки, обещав вернуться через неделю и прося Фридриха Адольфовича ежедневно писать ему в город о здоровье и времяпрепровождении сыновей.
Когда коляска, принадлежащая Волгиным, с сидящими в ней отцом и дочерью мягко покатилась по дороге из хутора, из-за лесной опушки показалась легкая бричка, в которой сидел князь Виталий, и присоединилась к хуторской тройке.
* * *
В лесном домике праздновалось рождение Дмитрия Ивановича. Мая задолго до дня семейного праздника прибежала на хутор, чтобы пригласить детей Волгиных провести в лесу целый день. Но оставить дома без себя Юрика на такой долгий срок Фридрих Адольфович никак не мог решиться. И потому, пообещав Мае прийти к ним попозднее под вечер, он целый день посвятил больному. Тотчас же после обеда Фридрих Адольфович попросил нянюшку занять его место около постели Юрика, а сам поспешил с двумя его братьями в лесной домик. Юрик остался с Ириной Степановной. Ему казалось очень скучным лежать в постели. Пока было еще светло, мальчик читал книжки, но когда понемногу стало смеркаться (августовские сумерки наступают рано), Юрик начал заметно тосковать.
– Скорее бы наши вернулись! – говорил он няне, поминутно вздыхая и ворочаясь в постели с боку на бок.
– Да рано еще, Юрушка, – отвечала та, – поди, еще и восьми часов нет.
– Даже и восьми нет! А иллюминация и фейерверк начнутся только в десять! – произнес печальным голосом мальчик.
– Кто ж виноват, что не пришлось и тебе повеселиться в гостях! Шалил бы поменьше, так и не болел бы зря-то! – заворчала на мальчика Ирина Степановна, которую после всех ее хлопот и забот по хозяйству так и тянуло уснуть где-нибудь хорошенько в уютном и теплом уголку.
– Ступай спать, нянечка, – предложил Юрик старушке.
– Ну, а ты один, што ли, останешься? – спросила та своим добродушным, ворчливым тоном.
– И я тоже усну. Наши не скоро еще вернутся, и я успею отлично выспаться до их приезда. Право, нянечка, ступай и ты.
– И ладно, – согласилась Ирина Степановна, – будь по-твоему, пойду и сосну маленечко. А что понадобится ежели, то ты мне постучи в стенку, слышишь? – и, перекрестив Юрика, старушка, охая и кряхтя, поплелась в свою комнату, находившуюся по соседству с детской.
Юрик поворочался с боку на бок в постели и вскоре уснул. Странные сны в этот вечер снились мальчику. То ему грезилось, что Фридрих Адольфович, одетый в нянин чепец и пеструю шаль, едет верхом на Буренке, а за ним, пятясь задом, ползет черный рак, тот самый, которого они засадили в табакерку; за раком ковыляет попка и кричит ему, Юрику, что-то сердитым голосом, мотая своей хохлатой головкой. Мальчику стало даже жарко во сне… Дыхание спирало в его груди, сердце стучало… Наконец Юрик сделал усилие и проснулся. Проснулся и обмер от неожиданности. В комнате было светло, как днем, и нестерпимо пахло дымом и гарью.
Юрик вскочил с постели и, как был, босой, в одной ночной рубашонке, подбежал к окну. Глухой крик ужаса сорвался с губ Юрика, и он едва удержался на ногах от испуга. Находящийся неподалеку от господского дома домик птичницы Аксиньи пылал, как свеча, со всех сторон охваченный пламенем.
– Пожар! – вихрем пронеслось в голове испуганного насмерть мальчика, и он заметался по комнате, хватая по пути одежду и набрасывая ее на себя.
– Барчонок! Егор Егорыч! Егорушка! – послышался за окном чей-то дрожащий и испуганный голос, голос Митьки, стоявшего под окном и ярко освещенного пламенем. – Горим мы… сейчас проснулся это я, кругом-то дым… ого…. страсти! Как есть горим! Ой, ой, беда, беда-то!
– Митька! Ты это? – высовываясь в окно, спросил Юрик.
– Я! Я! Беда-то. Ахти, беда! Горим! Тетка со свечой на чердак пошла. Свечу оборонила в солому. Шасть и загорелось! Ой-ой-ой! сгорим, сгорим дотла, как ни на есть, право!
И Митька заревел в голос, вытирая слезы грязными кулачками.
– Надо позвать Савельича. Разбуди его или кучера! – приказал дрожащим голосом Юрик.
– Нет их! Кучер господ повез к лесничему и там остался, а приказчик только ночью из города вернется. На хуторе только мы, да бабы, да сторож. Я хотел за помощью в деревню скакать, да боюся, мне не поверят мужики-то! Што я им-то! Вот коли ты за ними съездишь, так они в одну минуту набегут и огонь затушат. Да болен ты, не сможешь!
– Не смогу хутор отстоять от огня, не смогу? – горячо возразил Юрка. – Да не сгореть же хутору! Забыть болезнь надо в такое время! Ах, господи! Вот несчастье! Бедный папа! Митька, беги, разбуди сейчас же женщин, да смотри, не испугай их зря-то. А только чтобы наготове были… да все ценные вещи вынесли подальше от дома на всякий случай… Да Аркашку мне сюда! Аркашка смирный и не сбросит, как Востряк. Скорее Аркашку, а потом беги будить!
– Да ты чтой-то надумал? А? – испуганно тараща глаза, спрашивал Митька.
– Не твое дело. Няне скажи, что я к лесничему поехал… Да скорее Аркашку сюда веди. Ради бога, каждая минутка дорога!
– Да как же ты больной-то?
– Молчи! – так строго крикнул на своего приятеля Юрик, что Митьке только и оставалось повиноваться.
Через минуту наскоро взнузданный Аркашка стоял уже у крыльца и Юрик, едва державшийся на ногах от слабости, карабкался в седло при помощи Митьки. Плечо у мальчика еще далеко не зажило и побаливало при каждом движении, к тому же его сильно знобило, и общая слабость сковывала все члены. Он едва-едва мог вскарабкаться в седло и, схватившись обеими руками за поводья, изо всех сил ударил ногами бока Аркашки. Тот в один миг вылетел из хуторских ворот и помчался стрелой по направлению к деревне.
Юрик почти не сознавал своего болезненного состояния и слабости, охватившей его с той же минуты, как только он покинул мягкую постельку и сел на высокую спину Аркашки. Юрик знал и чувствовал только одно, что ему необходимо в одну минуту домчаться до деревни, созвать крестьян и во что бы то ни стало отстоять, спасти от огня отцовский хутор.
Уже будучи в полуверсте от усадьбы, мальчик расслышал отчаянно-испуганные крики, несшиеся за ним вдогонку, и громкий плач женщин: очевидно, разбуженные Митькой няня, Евгеша и Матрена выражали этими криками свой ужас при виде пожара.
– Скорее! Скорее! Аркашенька, милый! – лепетал Юрик, погоняя и без того несущуюся стрелой лошадку. – Надо как можно скорее скакать! Дорогой, ненаглядненький! Хутор спасти надо, папин хутор, Аркашенька!
И чуткий конь, казалось, понимал маленького всадника и все ускорял и ускорял свой бег. Юрик уже едва держался в седле, но все не переставал, однако, погонять лошадь.
– Господи! Помоги мне добраться до деревни! – лепетал бедный мальчик, и сердце его сжималось при одной мысли о том, что будет, если он опоздает с помощью на хутор.
Юрий Денисович с такой любовью относился к своему только что приобретенному хуторку. Он вкладывал в него все свои силы и был так счастлив иметь это крошечное именье, хорошенькую маленькую усадьбу. И вдруг… от одной пустой неосторожности, от беспечного обращения с огнем она должна погибнуть и обратиться в груду пепла.
– Бедный, бедный папа! – шептали с тоской побледневшие губы Юрика, и он все шпорил и шпорил уже успевшего покрыться пеной коня.
Жутко, страшно было нестись так одному, беспомощному и больному мальчику.
Было около половины десятого вечера, а уже кругом стояла полная тьма, как бывает в начале августа.
Пока дорога шла полем, было еще не так жутко бедному Юрику, но когда Аркашка поскакал по узкой лесной тропинке, сердце мальчика екнуло и сжалось страхом. Кругом тесно обступали кусты и деревья, протягивая свои сучковатые ветви, казавшиеся в темноте длинными, цепкими, мохнатыми руками. Юрику невольно приходили теперь на ум колдуны, лешие и прочие «страсти» из сказок, в которые он, конечно, не верил, но которые невольно чудились ему в эту ночь благодаря его расстроенному от болезни воображению. Голова мальчика кружилась и болела, в ушах звенело… Его побледневшее лицо покрылось холодным липким потом. Он едва держался в седле.
Наконец вдалеке показались желанные огоньки деревни. Юрик еще раз ударил каблуками крутые бока Аркашки, и понятливая лошадка в одну минуту вынесла его из леса и домчала до крайней деревенской избушки.
– Пожар на хуторе! Мы горим! Спасите нас, братцы! Бегите тушить скорее! – мог только произнести задыхающимся голосом несчастный мальчик, вбежав в первую избу, и как подкошенный упал без чувств на заскорузлые крестьянские руки.
Благодаря смелости и отчаянной стойкости Юрика прибежавшие вовремя крестьяне отстояли и господский дом, и пристройки хутора, все, кроме Аксиньиной избушки, которая сгорела дотла. Крестьяне подоспели как раз вовремя, в ту минуту, когда крыша главного строения начинала уже тлеть от переброшенной на нее ветром искры.
Когда Фридрих Адольфович и мальчики вернулись из лесного домика, все уже было кончено. Только груда углей и обгорелых балок на том месте, где стояла раньше Аксиньина изба, да сильный запах гари свидетельствовали о пожаре.
Юрик, принесенный на руках крестьянами на хутор, приведенный уже в чувство, рассказал все, скромно умалчивая, однако, о своем поступке. Но крестьяне не могли умолчать о «еройстве» барчонка, как выразился один из них, высокий, седой как лунь, старик-староста, поглаживая черноволосую головку Юрика, окончательно обессиленного всем происшедшим.
– Ай да барин! – говорил он, любовно заглядывая в глаза уложенного в постель смелого мальчика. – И молодец же ты! Кабы не ты, так от хутора один бы пепел остался, право слово.
И все наперерыв целовали и ласкали Юрика, выражая удивление и восторг от его поступка. Одна няня приходила в отчаяние.
– Кабы не пошла я спать, – говорила она, поминутно прерывая свою речь рыданиями, – так не поскакал бы он за помощью в деревню. А теперь, спаси бог, заболеет, простудится, что тогда будет?
* * *
Но Юрик не заболел и не простудился. Напротив, с этой злополучной ночи здоровье его быстро пошло на поправку. Он вскоре встал с постели и вместе с братьями и Маей принялся деятельно приготовляться к встрече отца и Лидочки. Юрий Денисович с дочерью пробыли не неделю, а около двадцати дней в городе, и только по прошествии этого срока назначили письмом день своего приезда.
О пожаре им особенно не писали, и только упомянули вскользь, что сгорела изба птичницы и что Аксинью с Митькой перевели в людскую. Весть о поступке Юрика и боязнь за его здоровье могли заставить Волгина ускорить свой приезд и сократить время лечения Лидочки, как думалось Фридриху Адольфовичу, и он предпочел скрыть о «событии» до поры до времени. Из писем отца мальчики знали, что Лидочка лечится очень упорно в губернском городе, но о результатах леченья Юрий Денисович не писал им ни слова.
Стоял чудесный теплый, ароматный август. Яблоки зрели и наливались в хуторском саду.
Дети Волгиных, Мая и Митька ходили с серьезными, озабоченными лицами… Завтра должны были приехать дорогие отсутствующие, и день их приезда дети совместно с Фридрихом Адольфовичем решили обставить как можно торжественнее.
Отец и дочь обещали привезти с собой гостя на хутор. Князь Виталий, как было сказано в письме Юрия Денисовича, тоже хотел быть у них и провести с ними несколько дней.
Программа завтрашнего дня была уже давно готова. Решено было поставить живые картины, читать стихи и проплясать русский танец на заранее устроенной в саду сцене. Ко всему этому деятельно готовились целую неделю.
Живые картины придумал сам Фридрих Адольфович, стихи посоветовал он же, а Мая предложила пляску и песни на садовой площадке между собственноручно сшитыми полотняными декорациями.
Кроме дорогих приезжих, решено было пригласить в качестве зрителей Дмитрия Ивановича, всю прислугу и мужиков, баб и ребятишек из соседней деревни, которые оказали помощь на пожарище.
Еще накануне весь дом украсили гирляндами зелени со вплетенными в ней кустиками красной брусники. Вышло очень незаурядно и красиво.
Матрене с вечера был заказан самый вкусный обед: пирог с капустой – любимое кушанье Юрия Денисовича, и малиновое мороженое, особенно нравившееся Лидочке.
Малину чистили сами мальчики, и потому немудрено, что носы и губы всех троих лакомок казались разбитыми благодаря красному соку ягод, запачкавшему их.
Шалуны так ревностно принялись за чистку, что в какие-нибудь полчаса блюдо опустело, а вазочка, куда должна была перейти вычищенная малина, все еще оставалась пустая. Зато у Бобки болел живот, и он ходил, нахохлившись, как настоящий индюшонок.
В этот вечер мальчики долго не могли уснуть, мечтая о завтрашнем празднестве.
Фридрих Адольфович поминутно перебегал от одной детской постельки к другой, крестя то одного, то другого из своих неугомонных воспитанников, переворачивая под ними подушки, поправляя сбившиеся одеяла и всячески упрашивая их уснуть.
Наконец мальчики, побежденные усталостью, сладко захрапели, а за ними следом захрапел и весь хутор, погрузившийся в крепкий сон.
На другое утро все встали очень рано. Дети с нетерпением ожидали приезда отца и поминутно посылали Митьку за ворота – посмотреть, не показался ли вдали экипаж.
– Едут? – накидывались они на Митьку по его возвращении.
– Нет еще!
– Сбегай опять, посмотри на дороге.
– Да говорят тебе – не едут! Только зря посылаешь!
И Митька, переодетый в чистую рубаху, с гладко прилизанными коровьим маслом вихрами, весь погрузился в рассматривание своих новых сапог.
Сапоги эти были гордостью Митьки. Их купили ему после пожара дети Волгины, сделав ради этого складчину из своих карманных денег. Сапоги были очень велики и нестерпимо скрипели. В этих необыкновенно скрипучих сапогах Митька держался с особенной важностью и достоинством.
Наконец все трое детей Волгиных вместе с Маей, одетой в нарядное белое платьице, с большим букетом лесных цветов в руках, и Фридрихом Адольфовичем, сиявшим необычайным оживлением, вышли на крыльцо хуторского дома, чутко прислушиваясь, не звякнет ли вдали желанный колокольчик.