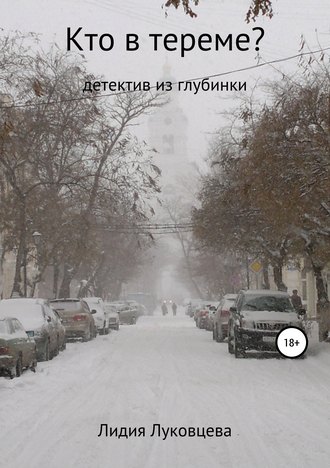
Лидия Луковцева
Кто в тереме?
– А ваши девочки?
– У моих сегодня практика, они по разным местам.
Никита Михайлович Мирюгин, молодой директор недавно созданного в Артюховске Музея купеческого быта, позвонил и слезно умолял перенести их встречу на более позднее время. У него нарисовались реальные спонсоры, и встреча с ними была для него куда важнее, чем очередная беседа с представителем РОВД.
Ничего нового на предмет гибели его сотрудника Херсонского Игоря Юрьевича он рассказать не мог, кроме того, что уже рассказал. Да, чуть больше месяца назад он, Никита Михайлович, по просьбе Игоря Юрьевича принял на работу его знакомого – Легостаева Виктора Ивановича. Ну, как принял? Временно, по краткосрочному трудовому договору.
Херсонский с Легостаевым должны были освободить подвал от скопившегося там за десятилетия бытового хлама – коробок, ящиков, сундуков, забитых барахлом, сломанной техники и тому подобного. Ну, и произвести мелкий ремонт стен и перегородок, если потребуется. Работал Легостаев на совесть, выполнял все и даже больше, чем от него требовалось. Руки золотые, и не лодырь. Чтобы пили – не замечал.
Игорь Юрьевич, честно сказать, к физической работе не слишком был предназначен, основная нагрузка легла на его напарника. Как уж там они договаривались деньги делить – он не вникал, это их дело. По завершении работы все расстались, взаимно довольные.
Бурлаков пошел музейщику навстречу, так как сочувствовал. Спонсорские деньги могли уплыть у директора из-под носа. Спонсор – существо эфемерное и ветреное: сегодня он возник, завтра – растворился.
Сегодня он предан идее сбережения исторической памяти и горит желанием помочь встать на ноги музею. Завтра он вдруг осознает великую роль искусства для подрастающего поколения и возжаждет отстегнуть некую сумму перебивающейся муниципальными крохами местной малюсенькой картинной галерее. Галерея – гордость города, хотя в экспозиции, в основном, – работы местных художников-самородков. Послезавтра он начнет думать о спасении своей грешной души и жертвовать на храм. Вполне вероятно, что послепослезавтра он осознает, что заработанного своими непосильными трудами бабла на всех не хватит, а жизнь быстротечна. Проникшись скорбью, он продолжит тешить себя, любимого, и эпикурействовать.
Вадим Сергеевич не стал качать права. Собственно, они уже встречались с Никитой Михайловичем в кабинете Бурлакова, и его нынешний беглый телефонный рассказ добавил мало красок в нарисованную им прежде картину.
Херсонский работал у них чуть более года. Зачислен был сторожем, но при зачислении изъявлял согласие за ту же зарплату выполнять и всякую мелкую мужскую работу по музейному хозяйству, типа, прибить-привинтить. Мастер-хаус, одним словом. Никита Михайлович, трясшийся над каждой копейкой, прельстился его кандидатурой из соображений экономии.
Херсонский всякую работу и выполнял, добросовестно, но как умел. Никита, глядя на результаты, думал порой, что звание «Мастера-золотые руки» он бы ему не присвоил, хотя и сам не годился даже в подмастерья. «Тяп-ляп», – говорила его деревенская бабушка, или: «Не оттуда, Никитка, у тебя руки выросли. Не в отца пошел».
Уже когда Никита листал трудовую книжку Херсонского – фолиант, даже, он сказал бы, инкунабулу, не будь она столь затрепанной и замасленной («зачуханной», определила бы его бабушка), его одолевали сомнения в целесообразности приобретения столь ценного кадра. Сомнения разметала в прах Людмила Петровна. Она была соседкой Херсонских и по совместительству – подругой их музейного бухгалтера Людмилы Ивановны и экскурсовода Зои Васильевны. Эти три женщины не столь давно сыграли немаловажную роль в жизни самого Никиты, и сейчас были не просто единомышленницами, но помощницами и сподвижницами в благородном деле создания музея.
Оказывается, речь шла ни больше ни меньше как о спасении молодой семьи. Семья была молодой не по возрасту, а по стажу, и нужно было помочь декабристке-жене поднять мужа с колен, выпрямить и дать возможность сделать первые шаги. А уж учить заново ходить его она будет сама.
Никита и сам совсем недавно обзавелся семьей, и это понятие было пока что для него свято. Это стало вторым соображением при зачислении. Третьим – безусловная порядочность Игоря Юрьевича Херсонского, которую с пеной у рта гарантировала Людмила Петровна.
Короче, стихийно образовалось общество по спасению бывшего алкоголика. Причем, никто не гарантировал, что Игорь Юрьевич не сорвется. Он ведь мог насторожевать так, что потом пришлось бы подключать полицию к поискам экспонатов и каких-никаких имеющихся в распоряжении музея стройматериалов.
Вслух сомнений никто не высказывал, все дружно играли в благородство, пока однажды снедаемая беспокойством за своего протеже Людмила Петровна, вкупе с Зоей Васильевной, прихваченной для храбрости, не столкнулась глухой ночной порой у музейного забора с Никитой Михайловичем. С ранимой Лидой Людмила Петровна поопасалась делиться сомнениями, возможно, беспочвенными. Никита, в свою очередь одолеваемый начальственным ражем, вышел в ночь, подобно Гаруну-аль-Рашиду, проверить, насколько все спокойно на территории его маленького Багдада. То есть, сколь добросовестно охраняет вверенный его попечительству культурный объект сомнительный кадр.
Кадр-таки был на месте, в окне его светелки горел огонек. А приведенный им с собой на дежурство Басмач (лохматая беспородная псина темно-коричневой масти, которую Гарик недавно прикормил) учуяв пришельцев, не сходя с крыльца бдительно и злобно зарычал. Ему подтявкнула Мочалка – маленькое пушистое существо бурого цвета. Внимательный глаз мог бы определить, что в годы ее отшумевшей золотой юности она была блондинкой.
Мочалка прибилась к Басмачу в одну из ночей его дежурства и легко мирилась с полученным ею от Гарика неблагозвучным именем за не слишком обильную, но гарантированную миску с объедками. Днем она куда-то исчезала: вроде бы у пирса под плитой вырыла нору, где и щенков производила на свет. А ночами, причем по графику, то есть – когда дежурили Басмач с Гариком, строго через две на третью, помогала им коротать дежурство.
Как значительное число дам, миниатюрная Мочалка питала слабость к крупным мужчинам брюнетистого типа и повышенной шерстистости, вроде Басмача. Ее, вероятно, не тревожили мысли о часе Х, когда придет момент залезать под плиту и производить потомство. Она жила по легкомысленному женскому принципу – потом нам будет плохо, но это уж потом.
На их бдительный дуэт отреагировал Игорь Юрьевич, вышел на крыльцо с фонариком в одной руке и палкой (!) в другой.
– Кто здесь?! – рявкнул свирепо, хорошо поставленным баритоном. А ведь Людмила Петровна утверждала, что поет он, как ни странно, тенором.
Проверяющие шарахнулись в темноту.
Позже они определились с графиком, и уже по очереди изредка устраивали ночные вылазки. Но Гарик ни разу не подвел Людмилу Петровну и не заставил пожалеть о принятом решении Никиту Михайловича. Людмила Петровна со подруги, да и сам директор вынуждены были констатировать с заслуженной гордостью педагогов и с облегчением: Гарик Херсонский встал на ножки.
Все это уже было Бурлакову известно. Он, в силу своей дотошности, просто хотел осмотреть последнее место работы убиенного Гарика, поглядеть, так сказать, его глазами и влезть в его шкуру. Авось, родится какая-никакая мысль.
У Лиды Херсонской есть основания впасть в недоверие. Ведь в заброшенном колодце на старых дачах Игорь Юрьевич оказался после того, как отдежурил свою смену. Что его туда повело? Почему он не пошел прямиком домой, к горячему вкусному завтраку? Раньше за ним такого не водилось. И еще: почему Никита Михайлович предпочитает смотреть в сторону, когда случается ему беседовать с Бурлаковым? Есть что скрывать?
Решив использовать образовавшееся в его расписании окно и пообедать, Бурлаков все же заскочил прежде на работу. Дежурный сержант предупредил, что его ждут две женщины, которые занимавшемуся в этот момент в кабинете вдохновенной писаниной младшему лейтенанту Лысенко излагать свою проблему отказались.
Капитан взглянул на сотовый – пропущенный вызов от Лысенко. Как же это он его не услышал? Взбежал бодро на свой второй этаж. Возле его кабинета на двух стульях сидели, съежившись, мать и дочь Гороховы. При его приближении дружно вскочили и едва ли не руки по швам вытянули.
За окнами влачился паршивый серенький декабрьский денек, с неба опять сеялось непонятно что – то ли крупа, тут же и тающая, то ли морось, тут же замерзающая – термометр сегодня показывал ноль. Бурлаков промок, а нежданные гостьи его оказались более предусмотрительными: рядом со стульями, в небольшой нише, стояли их разложенные зонтики, уже высохшие. Видно, сидят здесь уже порядком.
Энергетики в этом месяце хулиганили особенно активно – производили регулярные веерные отключения электричества по улице Минусинской, где располагалось РОВД. Едва успел Бурлаков подойти поближе к женщинам, как свет опять вырубили, и коридор заполнил прямо-таки вечерний сумрак.
Капитан не успел разглядеть выражений лиц посетительниц, да тут и психологом не надо было быть, чтобы догадаться: на лицах – маски трагедии. Либо дитя дозрело до признаний, либо случилось еще нечто неординарное. Либо то и другое. А несчастная мать, естественно, – в качестве конвоира и телохранителя.
Когда Бурлакову приходилось читать в книгах «его глаза рассказали о многом» или «ее глаза просили, умоляли, требовали», он лишь пожимал плечами. Глаза сами по себе ничего не могут рассказывать, удивляться или гневаться, ему ли этого не знать. Они могут таращиться, щуриться, коситься… Он понимал, конечно, что это всего лишь литературный штамп, клише. Вытянувшиеся по стойке смирно посетительницы таращились, ели его глазами, как солдаты на плацу при посещении высокого чина.
Одно время Вадим Сергеевич всерьез увлекся физиогномистикой. Когда человек врет, его зрачки сужаются, взгляд бегает по сторонам. Тертые калачи знают об этой особенности и, наоборот, стараются смотреть на собеседника пристально. Получается чересчур пристально, и это тоже признак вранья.
Эти лица врать не умели.
– Это хорошо, что вы пришли! – сказал капитан. – Вы очень вовремя пришли. Прошу! – и гостеприимно распахнул дверь в кабинет.
Через 20 минут беседы, а точнее – признательных показаний, Юле Гороховой пришлось вызывать скорую: с ней случился нервный срыв. Возникла необходимость госпитализации. Матери тоже, заодно, всадили сердечный укол, и она погрузилась в скорую – сопровождать дочь в больницу.
Бурлаков, выйдя покурить, увидел в коридоре два забытых пестрых зонтика, один – в желтых лошадках на зеленом фоне, Юлин. Видимо, зонтов с автомобильными или футбольными принтами не нашлось. Другой – в розовых цветах на фиолетовом поле. Надо полагать, любимые цвета Дуни. Они так и стояли в нише.
Завтра, а может, уже и сегодня, ему предстоит выслушать «Отче наш» от начальника на предмет превышения должностных полномочий. Хотя превышения как такового не наблюдалось, девушке стало дурно посреди собственного рассказа. Мать это подтвердит, но в профилактических целях на ковер вызовут непременно, в качестве наглядного примера для коллег: как не надо вести допрос. Потом все же оперативное раскрытие преступления зачтется, и бурчание начальника будет отечески-символическим.
Покурив, Бурлаков с треском сложил зонтики и занес их в кабинет. Открыл было шкаф, хотел положить на верхнюю полку для головных уборов, но заколебался – настолько чужеродными телами выглядели зонты среди коренных обитателей. Словно две нежные легкомысленные бабочки, увлекшись флиртом, не учуяли надвигающейся непогоды, и шквал ветра занес их в чью-то провонявшую нору.
Этот родной крепкий запах! Кто знает, сколько бедняжкам придется провести времени у него на передержке, пропитаются – потом не выветрится. Бурлаков закрыл дверцу и положил зонтики на шкаф. Взял со стола Юлин телефон, оставленный ему Евдокией Валерьяновной, набрал абонента.
– Кира, не кладите трубку, послушайте меня.
– Вы кто?!
– Меня зовут Вадим Сергеевич Бурлаков, я замначальника уголовного розыска Приволжского РОВД.
– Откуда у вас Юлькин телефон? Где Юлька?
– Юля в больнице. У нее нервный срыв.
– В какой больнице?
– Этого я вам не скажу.
– Да я и сама узнаю!
– Не узнаете, я уж постараюсь. Да хоть и узнаете, вам это ничего не даст. К ней не пропустят.
– Меня пропустят!
– Ну, если только вы переоденетесь в меня и предъявите мое удостоверение.
– А почему? Вы тут с какого боку?
– А вы как думаете?
– Я ничего не думаю!
– Кира, вам ведь уже есть 18, – Бурлаков не спрашивал, а утверждал.
– Ну а мой возраст-то здесь при чем?
– Вы достаточно взрослый человек, чтобы отдавать себе отчет: всю оставшуюся жизнь ведь прятаться не сможете. Попробуйте представить.
Взрослый человек трудно сглотнул и откашлялся. Помолчали…
– Это типа того, что раньше сядешь – раньше выйдешь?
– Типа этого.
– Что мне будет?
– Будет суд, и он решит. Чистосердечное раскаяние значительно смягчает вину.
– Ну-ну! Бла-бла-бла…
– Вы подумайте и перезвоните мне через полчаса. Если хотите, я продиктую вам мой номер телефона.
– Без надобности, я позвоню на Юлькин. Он ведь у вас. Завтра!
– Сегодня, Кира. Через полчаса. Иначе человеку, который вас укрывает, придется тоже отвечать по закону. Это во-первых. И для вас это уже не будет явка с повинной, я буду вынужден принять меры. Это во-вторых.
– Юлька сказала, где я?
– Кира, я жду вашего звонка.
Бурлаков блефовал. Юля не сказала, где скрывается Кира. Твердила, что не знает. Прежде чем ее задержать, нужно было еще найти.
Она все-таки позвонила, через час. Хоть в малости, но продемонстрировала характер и какое-то подобие независимости в этой-то ситуации. Ждала внизу, на проходной. Он велел дежурному выписать ей пропуск, и через 10 минут Кира Журавлева собственной персоной, постучав, вошла в кабинет.
Никита Мирюгин

Никиту Михайловича Мирюгина величать по отчеству стали не слишком давно. С тех пор, как он вступил в должность директора музея купеческого быта. До этого он был просто Никитой Мирюгиным, студентом исторического факультета Астраханского педагогического университета, в народе – «педухи».
Правда, на зимних практиках в школах и на летних в детских лагерях отдыха он потихоньку привыкал слышать постоянно свое отчество. Но у них с ребятами-студентами это все равно был, скорее, повод для шуток. Там по-отчеству к нему обращались дети, а теперь же – вполне зрелые, на его взгляд, даже достаточно перезрелые люди, в одночасье ставшие его подчиненными.
У кого ума нет, тот идет в пед, – бытовала когда-то поговорка в студенческом фольклоре. Теперь не бытует. У кого ума нет, тому сейчас ни в педухе, ни в других заведениях для высшего образования делать нечего. На бюджетное отделение без признаков ума, хотя бы без его проблесков – не пробиться.
Ну конечно, за исключением случаев, когда кто-нибудь из родителей – денежный мешок или при высоком посту. Кстати, Никита в этом отношении был дважды везунчиком: папа его занимал достаточно высокий пост по артюховским меркам, был заместителем мэра города, а еще до этого владел строительной фирмой. Опять же, по артюховским меркам, фирма была весьма успешной, напористо осваивала местный рынок недвижимости.
Сейчас фирмой руководила мама, тоже успешно, а Никите в перспективе светила роль соучредителя: кому же, как не единственному сыну, наследовать строительную империю? Вот только следовать родительскому примеру он не захотел, в свое время отказался поступать в инженерно-строительный университет, чтобы овладеть какой-нибудь профильной специальностью. Родители были в легком шоке, потому что они в свое время прошли почти все ступеньки, от рабочих до ИТР, чем законно гордились.
Никита был упертым, пользоваться родительскими деньгами и связями отказался еще в школе. Одно дело – мелочь на карманные расходы, другое – личные вещи и развлечения.
Поэтому никто не удивился, когда после девятого класса Никита с другом, с целью подзаработать, устроились на летние каникулы в археологическую экспедицию и уехали на раскопки в астраханскую степь. Конечно, кроме соображений меркантильных их обоих влекла романтика археологических открытий, тайны древней жизни, скрытые в земле. Как целые города оказались под землей? Как археологи определяют место будущих раскопок? Так ли уж отличалась жизнь древнего мира от их жизни?
Романтики оказалось мало, ее и совсем не было поначалу. Были зной, пыль, песок на зубах и тяжелый труд, особенно тяжелый для пацанов, к физическому труду не привыкших. Их, конечно, жалели и щадили, старались по возможности не нагружать по полной. А романтика появилась потом в их воспоминаниях и рассказах одноклассникам о находках древних погребений и развалин зданий – экспедиция, в которой они участвовали, оказалась удачной по части находок.
В итоге там оба заразились страстью к древностям, ближайшее свое будущее связывали только с историческим факультетом, а дальнейшее – с археологией.
Друг не прошел по конкурсу и обиделся на Никиту, хотя тот чуть не со слезами божился, что родители не принимали никакого участия в его зачислении. Зная Никиту, Ваня верил в его искренность, но понимал, что определенную роль, (скорее всего – очень важную) сыграла фамилия. И, возможно, папины астраханские покровители. Шансы были изначально не равны, и Иван считал, что Никита занял его место, а сам вполне мог бы учиться на коммерческом отделении.
У Никиты были свои резоны. Он не хотел, чтобы хоть когда-нибудь отец произнес сакраментальную фразу: «Я в твои годы! – а ты сидишь на моей шее». Он знал свой потенциал, знал, что экзаменационные оценки получал заслуженные, но знал также и то, что перед поступлением занимался с платными репетиторами. А потому комплексовал. У Вани такой возможности не было, и армия распахнула ему горячие объятия. Дружба сошла на нет.
Домом, где прошло детство и юность Никиты, был двухэтажный коттедж с мансардой на улице Волжской – почти ровесницы Никиты. Окна домов жителей Волжской смотрели на реку и позволяли им во всякое время года любоваться волжскими красотами.
Здешние жители практически все были не рядовыми артюховцами. И коттеджи их, по мере того, как росли, словно грибы после щедрого летнего ливня, были один круче другого.
До того, как в рекордно короткие сроки возникла Волжская, крайней улицей от Волги была Заречная. Теперь она оказалась в тылу у коттеджей. «Волжские» лишили «зареченцев» возможности и их векового права выходить к реке прямо из своих огородов, спускаться к мосткам, на которых жены десятилетиями полоскали белье и где были привязаны лодки. Огородов местные тоже лишились (правда, самозахваченных, никем не учтенных метров ничейной земли, которые за долгие годы обиходили и привыкли считать своими законными), а свои «Вихри», «Казанки» и «Метеоры» теперь катили к воде на съемных колесах в обход, по дороге.
Волжскими красотами зареченцы больше не любовались из окон. Этой возможности их лишили высоченные кирпичные заборы, воздвигнутые на границе с их участками, – от любопытных взглядов и, не дай бог, посягательств зареченского коренного плебса. И хотя сведений о кулачных боях обитателей новой – Волжской и старой – Зареченской – улиц новейшая артюховская история не сохранила, но взаимной симпатией тут и не пахло.
Антипатию зареченцев, которая имела-таки основания, волжские объясняли исконной завистью нищебродов к тем, кто умеет жить, и вековым желанием все отнять и поделить. Но испорченные всеобщей грамотностью зареченцы понимали, что с историей и прогрессом бороться бессмысленно. Плетью обуха не перешибешь. Да и народ уже давно не выходит по таким поводам на кулачные бои. Все в прошлом.
Мирюгинский коттедж воздвигался, когда папа, Михаил Никитич, еще и не помышлял идти во власть. С молодым азартом и нахрапом раскручивался он в строительной отрасли, а мама, Альбина Вячеславовна, ему активно помогала по финансовой части. Их дом появился одним из первых на будущей улице Волжской. Может, потому и был сравнительно скромным, по нынешним-то временам.
Это позже рядом и поодаль стали возноситься средневековые замки с башенками, итальянские палаццо и швейцарские шале. Их дом был всего лишь двухэтажный, не столь помпезный, без вычурных декоративных элементов, химер и кариатид, без бассейна и бильярда – просто просторный уютный дом. Разве что, с мансардой.
Сейчас это вдруг стало для папы-Мирюгина, который дозрел до того, что хотел сам баллотироваться в мэры, большим плюсом. При случае он с подобающей скромностью водил по дому высоких гостей, демонстрируя интерьер в стиле минимализма. Демонстрация, по задумке, должна была рождать у экскурсантов мысль, что этому человеку можно доверить муниципальный бюджет.
Никита любил свой родной дом, что ж в этом удивительного? Подрастая и взрослея, он влюбился и еще в один домик – не какой-нибудь соседский псевдодворец, а граничивший с их участком с тыла, с Заречной, деревянный теремок, чудом сохранившийся образец русского зодчества. Точнее сказать, это было строение, стилизованное под древнерусское зодчество. Построил его когда-то известный артюховский купец Тиханович еще в начале XX века, накануне революции.
Домов-ровесников этого терема в Артюховске хватало, ветхий фонд был традиционной головной болью местных властей, но то были обычные жилые постройки. Терем Тихановича выглядел посреди коттеджей обнищавшим боярином среди зарвавшейся, неправедно разбогатевшей черни. Заметно обветшавший, но не сдавшийся натиску времени и непогоды, он возносился среди деревьев заросшего, запущенного небольшого сада четырехгранной крышей-луковицей, словно церковка или часовенка.
Деревянный сруб тоже был двухэтажным, но по высоте все равно не дотягивал до мирюгинских хором. По периметру на уровне первого этажа его опоясывала крытая галерея, переходившая со стороны фасада в просторную террасу, где когда-то, наверно, чаевничали в летний зной гости купца. Оконные наличники, перила, балясины – все было изукрашено искусной прихотливой резьбой.
Дожди и снега за многие десятилетия образовали на бревнах бурые пятна и трещины, кое-где были покрыты бархатистым зеленым мхом, бревна почернели. Но неравнодушный глаз способен был оценить прелесть и оригинальность дома-терема. Это была ожившая русская сказка.
Никита любовался теремком, чудом сохранившимся, из окон своей мансарды, которую, подрастая, захватил в безраздельное владение. Позже несколько раз он проникал с друзьями и во двор, проделав лаз в заборе. Он все пытался представить людей, которые здесь жили, юную боярышню, томящуюся в своей светелке и грезящую о молодом боярине.
Боярышня должна была иметься непременно! Впрочем, нет, не боярышня, дом-то купец строил, терем же просто стилизован под Древнюю Русь. Значит, юная купеческая дочь, дородная, с румянцем во все щеки, изнывающая от безделья и грезящая о сватовстве обедневшего аристократа или майора.
Учась в университете, он, выбирая тему курсовой по краеведению, заинтересовался историей купечества Поволжья и попросил преподавателя сузить тему до истории артюховского купечества. Препод согласился, но предупредил, что вряд ли он найдет достаточно материала на курсовую.
– Во всяком случае, попытка – не пытка, не поздно будет потом переиграть. Хотя, если вам удастся накопать что-то новенькое, – честь вам будет и хвала!
Материала на курсовую набрать не удалось, пришлось переигрывать и возвращаться к исходной теме, но в процессе поисков Никите кое-что интересненькое отыскать все же удалось. И снова – спасибо папе, благодаря которому Никите был открыт доступ не только в фонды областной библиотеки, но и в различные архивы.
Встретилось ему несколько скупых упоминаний и об его никогда не виденном, давно почившем в бозе соседе – первом хозяине теремка, артюховском купце второй гильдии Тихановиче, почетном гражданине города. Ну а с историей теремка за последние десятилетия Никиту ознакомил зареченский старожил – дед Федор Любимов.
Сидел как-то Федор Игнатьевич, по обыкновению, на лавочке возле своего дома, погруженный в пучину беспросветного одиночества и печали, поскольку день был будний, и большая часть населения Заречной трудилась где-то на чье-то благо. Никита, проходя мимо, как воспитанный человек, поздоровался.
Он слишком поздно заметил деда, а потом поворачивать обратно было неловко. Не то, чтобы дед Федя был ему антипатичен, вполне себе нормальный дед, но среди окрестных жителей он славился гипертрофированной любознательностью и безграничной фантазией. Он, как вампир, впивался в любого проходящего мимо человека, и до капли высасывал из него информацию, независимо от того, какого рода информацией владел данный конкретный человек.
Особую слабость он питал к людям со свежей кровью, то бишь проходящим по улице незнакомым лицам – носителям неведомой ему пока информации. О пытках в инквизиторских и гестаповских застенках Федор Игнатьевич только слышал и – сохрани боже! – их приемами не владел, но и без пыток разговорить мог практически любого.
Вначале человек отмалчивался, на уровне «да» и «нет», потом вяло отбрехивался, как шавка из-под крыльца в знойный июльский полдень, а после – трещал почти безостановочно, как кузнечик.
Любил Федор Игнатьевич общаться и с представителями племени младого, незнакомого, менторствуя и погружаясь в философские банальности (в основном, конечно, почерпнутые в телевизоре). Но такая возможность выпадала ему нечасто. Молодежь, приближаясь к дому Любимовых, внимательно всматривалась в перспективу: не сидит ли на своей лавочке дед Федя.
С лицами обоего пола, утратившими бдительность, старичок оттягивался по полной и заговаривал до полусмерти. А Никита мало того, что в тот день утратил бдительность, он еще был и пареньком воспитанным. Скажете, не бывает такого – заммэровское-то дитятко?! Ан нет, бывает! По крайней мере, в Артюховске.
Посему он, свернув с прямой линии на середине улицы, по которой передвигался, повлекся обреченно, словно зомби, к любимовской лавочке, под горящим призывом взором деда.
– Здорово, Никита! – благосклонно приветствовал дед Федя, оценивший добровольную явку. Он вообще с симпатией относился к сыну большого человека. Как, впрочем, и к самому большому человеку, и на следующих выборах мэра даже собирался за него голосовать, если надумает все же избираться.
Федору импонировало, как и другим окрестным жителям, что Мишка Мирюгин не поменял место прописки. «Уйдя в верха», он остался жить на старом месте. И то, что местные теперь не месят грязь, выбираясь к центральной улице, а шагают по асфальту, хоть машины и обкатывают их грязной жижей в непогоду, – это Мишкина заслуга, дай ему Бог здоровья.
– Как она, жизнь?
– Нормально, Федор Игнатьевич. А у вас?
Беседа начиналась по обычной любимовской схеме.
– Да вот сижу – думаю…
– Как жизнь прожить? – улыбнулся Никита.
– Мне-то что об этом думать? Я ее уже прожил, 86 скоро. Это вам думать надо, как ее прожить, а мне уже только прыгать осталось, сколько еще попрыгается.
– Что там особенно думать, – вздумал подурковать Никита. – Береги платье снову, а честь – смолоду! Главное, я думаю, Федор Игнатьевич, – на черный день накопить.
Он последил за реакцией деда на «больную» тему. Ходили среди местных слухи, что дед Любимов весьма скуповат.
– Я, родной, уже накопил на черный день, мне уже и интересно даже, когда же он наступит.
– То есть, вы человек не бедный?
– Это как посмотреть. В телевизоре вон говорят, что бедность, это когда коробка «Рафаэлло» – подарок. А я дочери на Восьмое марта всегда «Рафаэлло» дарю, она любит. Значит, бедный. С другой стороны, живем, не голодаем, и в долг не просим.
– Значит, немножко богатый?
– Да как же! Тут только соберешься разбогатеть – то за коммуналку платить надо, то башмаки порвутся. А вот ты лучше сам скажи мне: тыща долларов – это много или мало?
– Так вы же телевизор смотрите, там курс доллара передают. Умножьте на тысячу и определите, много это или мало.
– Не отгадал загадку, – вздохнул дед, – молодой еще, глупый.
– Ну, а по-вашему, много или мало?
– Зависит от того, зарабатываешь ты или тратишь!
– А, и верно, – согласился Никита, – загадка – в корень. Так о чем же вы тогда думаете?
– Да мне сегодня из сбербанка позвонили. Кредит предложили взять. Вот, думаю, может, взять?
– А что, очень надо?
– Вроде и не надо… Но уж такой любезный парень позвонил!.. «Здравствуйте, как мне можно вас называть»?
– Ну, и вы?
– А я ему: называй меня «Мой Белый Господин», сынок.
(Интересно, сам придумал?)
Скрипнула калитка и у скамейки нарисовалась боевая подруга Федора Игнатьевича – супруга, Зинаида Григорьевна.
Дед скривился:
– Любопытной Варваре нос оторвали. А она все равно вынюхивала краем носа, подглядывала краем глаза, подслушивала краем уха…
– Сам такой, – не осталась в долгу жена.
– … и думала краем мозга, – закончил супруг.
У дедов это была такая игра – прилюдно вышучивать друг друга, иной раз довольно остро подкалывать. Но жизнь они прожили, как свидетельствовала общественность, вполне дружно.
– А вот еще загадку отгадай, Никита! Если жена разбила чашку – это к чему?
– Ну… к счастью, говорят, – уже начинал маяться Никита.
– А если – муж?
– Ну, тоже. Какая разница?
– Это потому, что ты еще не женат, тебе нет разницы. А вот Зинаида Григорьевна мне сегодня про разницу объяснила. Я чашку разбил – так у меня руки не оттуда растут.
– Мою любимую. Сам на Восьмое марта подарил, – скупо прокомментировала супруга.
– Сто лет в обед! А когда ты в прошлый раз разбила?
– А та не любимая. Она мне вообще не нравилась.
– О как! Улавливаешь, молодежь, в чем разница-то?
Никита улыбался, наблюдая эту пикировку.
– Так что ж ты меня так не чихвостила, когда я надысь свою чашку-то разбил?
– Так тогда ты пьяный был, – напомнила Зинаида Григорьевна. Слово «пьяный» она произнесла на кавказский лад, игнорируя мягкий знак. – Показать хотел, кто в доме хозяин.
– Ааа! И кто у нас в доме хозяин?
– Ты, – не задумываясь, ответила супруга. – А чего спрашиваешь, никак – засомневался?
Дед признавать слабину не захотел и мгновенно перевел стрелки:
– А ты как учишься, Никита?
– Нормально, Федор Игнатьевич. Вот, научную работу по истории пишу. Про поволжских купцов материал собираю, про нашего Тихановича в том числе. Он, оказывается, известный в Артюховске человек был. Много полезного для города сделал, благотворительностью занимался. Я-то только и знал, что терем он построил. Его дом.
Тут, поскольку представился давно ожидаемый случай, Никита им воспользовался:







