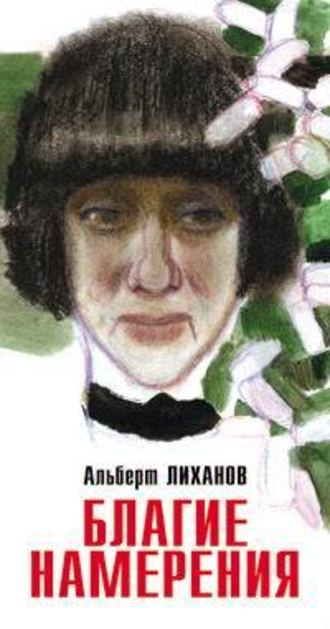
Альберт Лиханов
Благие намерения
18
С точностью до каждого мгновения помнит человек важные свои дни.
Мы с Аполлошей возвращаемся в вестибюль, и Елена Евгеньевна говорит, что меня зовут к телефону. Я иду в учительскую, с недоумением беру трубку.
– Надежда Георгиевна? – слышится мужской голос. – Вы меня узнаете?
Я еще под впечатлением ЛРП. Отвечаю довольно резко:
– Не умею разгадывать загадки.
– Ну, не сердитесь, – говорит мужчина. – Это Лобов из газеты. Виктор Сергеевич.
Теперь я узнаю его голос. Но говорить не хочется. Поскорей бы избавиться от осадка, который оставила газетная статья. Я придаю голосу предельную сухость:
– Я вас слушаю.
– Ну-у, Надежда Победоносная, – смеется Лобов, – что-то вы совсем не любезны!
Какая любезность! Я похожа на выкипающий чайник. Ух, этот Аполлоша! Разболтался! Едва сдерживаюсь, чтобы чего-нибудь не ляпнуть в трубку. Но все-таки этот Лобов принимал мое письмо. Да и статью свою писал, видно, от чистого сердца.
– Слушаю вас, – чуточку потеплее повторяю я.
– Мне надо встретиться с вами.
– Право, очень сложно, – бормочу я, сознавая, что веду себя не вполне прилично. Когда мне надо было, так время находилось. – Ну, хорошо. В какое время?
– Через час заеду прямо к вам.
Через час школа опустела, все разошлись домой. Я сижу в учительской одна над своей зеленой тетрадью. Но писать не могу. Мешает непонятное волнение. Пожалуй, даже досада. Чего ему еще от меня надо? Снова материал для статьи? Только этого не хватало!
В коридоре раздаются громкие шаги, дверь распахивается.
Лобов подходит к моему столику, счастливо улыбается. На нем ладная дубленка, в одной руке мохнатая шапка. Я разглядываю его внимательнее. Лицо потомственного интеллигента – худощавое, очки в тонкой золоченой оправе. Похож на учителя, врача, ученого, журналиста. Так что полное совпадение внешности и профессии.
– Наденька! – говорит он, и я удивленно вскидываю брови: не люблю безосновательной фамильярности. Но он точно не замечает моей реакции, а повторяет: – Наденька! Во-первых, я получил премию за очерк про вашу школу.
– Поздравляю, – говорю я, и что-то сжимает сердце, какое-то непозволительное волнение.
– А во-вторых, пойдемте в театр, а?
Глаза у меня, наверное, округляются. Да и лицо вытягивается.
– Это невозможно, – быстро произношу я, стараясь принять отчужденный вид. Но Виктор Сергеевич смеется, точно ему известны все эти уловки.
– Да бросьте! – говорит он совершенно спокойно. – Пойдемте – и все!
Что «бросьте»? Откуда такая развязность? Я уже готова выпалить эти восклицания, но что-то сдерживает меня. Воспоминание о Кирюше, моей студенческой пассии? Кирюша, Кирюша! Мысли о нем ленивы, Кирюша остался за чертой реального, он где-то в аспирантуре, мой бывший чистый физик, а в закутке у Лепестиньи две его натужно лирические открытки. Мысль о Кирюше все сонливее.
– Что вы сказали? – спросила я.
– Айда в театр!
И так он сказал это беззаботно, ни на что не претендуя, что мне тут же стало обидно – вот женская логика! Стало обидно: почему же не претендуя?
Местный театр не блистал искусством, поэтому спектакли частенько подкреплялись танцами в антрактах и после зрелища. Все вместе это называлось «молодежный вечер». Зрителей в зале почти не было, зато окрест стоял негромкий, но оживленный гул: народ, беседуя, ходил по фойе в ожидании танцев и освежался пивом в буфете.
Мы тоже не пошли в зал. Виктор Сергеевич увлек меня на диванчик под скульптурой обнаженного бога Аполлона, и я время от времени, увидев эту композицию отраженной в зеркале – я и Лобов, а над нами Аполлоша, так непохожий на себя, – весело и невпопад речам кавалера прыскала.
Он удивленно оглядывал меня, видно, такое поведение не совпадало с его представлением о серьезном педагоге-новаторе, а когда я пояснила, повалился со смеху. И вообще он был смешлив, совершенно прост, очень остроумен, что меня особенно привлекало. Было, правда, одно обстоятельство, которое мне мешало. Полтора года назад Виктор кончил факультет журналистики Московского университета. И вообще коренной москвич.
Странное дело, это меня уязвляло. Москвичи всегда казались мне белой костью, и наш старинный педагогический институт в старинном миллионном городе как-то всегда был несравним с университетом и Москвой. Глупо, конечно, но я сама сделала это: узнав, что он москвич, как бы приспустилась на ступеньку по сравнению с Виктором.
Да, он был уже Виктором после первого же не увиденного нами акта, а я Надей, Надюшей и даже Надюшенькой и, черт побери, снова чувствовала себя девчонкой, просто девчонкой, которой хочется смеяться, танцевать, болтать что попало, а никакой не воспитательницей.
В антрактах мы танцевали, Виктор был просто молодец, вел легко и свободно, и когда мы кружились в вальсе, между нами был целый круг, пространство, наполненное волнами тугого воздуха. Мы танцевали все – и всякий модерн, самую что ни на есть современность, – но я особенно запомнила вальсы, потому что по нынешним временам, пожалуй, только в вальсе партнер держит партнершу.
Сначала Виктор просто держал мою руку, но однажды, на каком-то повороте, легонько пожал ее, и я подумала, что он сделал непроизвольное движение, стараясь удержать меня. Потом он снова пожал мою руку, и я вопросительно взглянула на него. Он смотрел в сторону, точно был занят другими мыслями. Наконец я снова ощутила едва заметное рукопожатие и вновь взглянула на него. Теперь Виктор улыбался, смотрел в глаза, и я ответила на его движение.
Вечер кончался. Музыка еще играла, а великолепные люстры постепенно, по ярусу угасали. Вальс замедлялся, и неожиданно на последних витках Виктор, останавливаясь, словно ставя точку, прижал меня к себе.
Это было мгновение, одна секунда, но у меня перехватило дыхание. Я точно застыла. Виктор же болтал без остановки до самого моего дома и, мне казалось, разговорами скрывал собственное смущение. Главной его темой было учительское благородство, оказывается, его отец часто рассказывал про свою учительницу-старушку, которая всю свою жизнь отдала школе, проработала там шестьдесят лет, даже замуж не вышла – всю жизнь школе, детям, а умерла почти в девяносто, и вот ее бывшие ученики собрали деньги и поставили на могилке великолепный памятник – прекрасная, не правда ли, судьба?
Я качала головой, соглашалась, рассказ Виктора тронул меня.
У ворот он беспричинно засмеялся, схватил меня за талию, мы снова закружились, как в театре, и я все чего-то ждала, да не чего-то, я ждала повторения, и все повторилось, только иначе. Он прижал меня к себе, его лицо приблизилось.
Мы поцеловались.
«В первый же вечер! – лениво осудила я себя. – Едва знакомы!» Но думать об этом было скучно, а целоваться приятно.
Назавтра в группу прибежал сам Аполлоша.
– К телефону! Лично вас инспекция по делам несовершеннолетних!
Я вслушивалась в чей-то скрипучий голос, который объяснял мне, что дети из моей группы не соблюдают – надо же! – правила уличного движения.
– Мои дети, – кричала я, – ходят со взрослыми!
– Вот вчера ваш Урванцев пошел на красный свет.
– Вчера мой Урванцев не выходил из школы! – срывалась я на крик.
И вдруг без всяких переходов голос Виктора произнес в трубку:
– Я целую тебя!
– Как это понимать? – крикнула я по инерции. Только тут до меня стало доходить. Но рядом стоял Аполлон Аполлинарьевич. Смеяться? Я едва сдержалась.
– Хорошо! – ответила я.
– Что хорошо? – не понял Виктор.
– Хорошо то, о чем вы говорите…
– А ты? – допытывался он.
– Тоже! – ответила я, бросила трубку, вылетела в коридор и чуть не задушила в объятиях первого попавшегося под руку малыша.
Виктор звонил мне по нескольку раз на день, но трубку брал кто угодно, только не я, и он всякий раз выдумывал благовидные предлоги. Фантазия его била ключом. Бывало так, что я приходила в школу, а Елена Евгеньевна с удивлением сообщала мне, что звонили из санэпидстанции и благодарили меня за соблюдение идеальной чистоты в спальных комнатах первого «Б».
– Спасибо, – кивала я.
– Я что-то не припомню, – поражалась Елена Евгеньевна, – чтобы в последнее время к нам приезжали из санэпидстанции.
Я пожимала плечами.
За довольно короткое время в мое отсутствие по телефону мне выразили благодарность за самоотверженную работу моряки ракетоносца «Смелый» с Балтийского флота, игрушечная фабрика доложила о конструировании на общественных началах электронного Конька-горбунка специально для моей группы, управление пожарной охраны горисполкома сообщило об избрании меня почетным членом механизированного депо, а работники одной районной библиотеки предложили подарить мне книгу американского доктора Спока о воспитании маленьких детей.
Виктор шутил, а слухи о моей мнимой славе раздувались как воздушный шар. Даже Маша поглядывала на меня с каким-то недоумением.
19
Я, будто Карлсон, летала по школе. И все так славно выходило! Удача, наверное, как и несчастье, в одиночку не ходит.
С детьми расчет оправдывался, что и говорить. Они стали прилежнее, живее, точно в них что-то пробудилось. Старание и одухотворенность были следствием, а причиной – субботние встречи в вестибюле. Даже самый маленький и, казалось бы, несмышленый человек легко сознает ответственность перед любящими людьми. На радость всегда хочется ответить радостью, хочется похвастать своими удачами и победами. Неудачами ведь не хвастают, Словом, любой день и час недели окрашивался воспоминанием прошлого воскресенья и ожиданием следующего.
Когда Леня Савич повторил в очередной понедельник, что ему на именины испекут торт, порядочно зазнавшаяся Алла Ощепкова воскликнула:
– А у меня каждое воскресенье именины!
Алла тревожила меня, но в этом признании я услышала ощущение праздника. Похоже, стараясь похвастаться, она выразилась довольно точно, и многие могли бы сказать так же.
Пожалуй, все.
Может быть, я не видела тогда чего-то важного?
Пропустила из-за любви, как пропускает по неуважительной причине уроки плохая ученица?
Может быть. Наверняка. Любовь даже подтолкнула меня к ужасному изобретению. Трудно сообразить, как я это додумалась.
Я много думала о Викторе в те дни. Когда можно и когда нельзя. Когда нельзя – это во время самоподготовки. Следовало помочь малышам. У кого не выходит задача. Некрасиво пишется буква. Я это делала, но как-то механически теперь. Без былого старания и увлечения. Виктор мешал мне.
Одна из трудностей самоподготовки – неравность, если можно так выразиться, скоростей. Один решил задачу раньше, и, хотя сосед еще пыхтит, трудится, первый начинает ему мешать: возится, шумит, а то вскочит из-за парты: все-таки не урок, а подготовка к уроку. Тот, у кого скорость ниже, нервничает, отвлекается, дела у него идут хуже.
Однажды я не успела поесть и пришла с печеньем. Тем, кто готовил уроки быстрее, давала, чтоб сидели тише, по печенушке. Они притихли! Не отвлекали остальных.
«Эврика!» – говорят, воскликнул Ньютон, когда ему на голову шмякнулось яблоко. Я же тихо ойкнула, совершив свое открытие. А на другой день принесла к самоподготовке целый куль белых сухарей: Лепестинья насушила из буханки хлеба.
Мышата из передовиков хрустели сухарями, не мешая товарищам, потом и те получали свою долю, а я вспоминала Виктора. Надо же! Вот что может наделать любовь!
Только зеленая тетрадь возвращала меня к жизни. Все-таки двадцать два малыша. И на целый день, даже полтора мы теряем их из поля зрения. Отдаем посторонним.
Я затеяла проверку. В конце концов у нас все права. Аполлон Аполлинарьевич одобрил. Даже вызвался пойти со мной. И я села в калошу.
Дело в том, что проверку придумала не я одна. С Виктором. Полдня в субботу и все воскресенье мы проводили вместе, ходили в кино, а чаще всего на лыжах в сосновом лесу.
Стояла уже зима, пухово-снежная, с легким морозцем, без ростепелей. Пройдешь квартальчик хотя бы по городу, мозги тотчас прочищает, словно свежее купание. Снег звонко хрустел, искрился на солнце мелким хрусталем. Присядешь пониже, и снежная пластина вспыхивает радугой. Голубым, оранжевым, зеленым.
Виктор рассказывал про себя, про свою работу, и слушать это мне было очень интересно. Еще бы! Сегодня здесь, завтра там. Мне нравилось, что Виктора многие знали, как-то льстило, когда солидный пожилой человек первый приподнимает шляпу – вот какой известный человек мой ухажер! Но ухажер не кичился знакомствами, был предельно вежлив и любезен. Концепция его мне нравилась, была реалистической, но без пошлостей: Виктор предполагал отработать два года по распределению, а потом вернуться домой, в Москву, к родителям и устроиться в центральную газету.
– А сейчас, – говорил он, – познание жизни, приближение к ней, накопление запаса прочности, который пригодится для будущего.
Эти рассуждения я выслушала раз или два, приняла их к сведению и сердцу, но возвращаться к ним не считала возможным из элементарной гордости.
Когда Виктор говорил про два года, я восклицала про себя: «Как! Два года!» Но молчала, хотя и замедляла шаг. Выходило, я не вписывалась в программу Виктора, он не упоминал обо мне в своих расчетах. На какое-то время холодела, но потом сиюминутность захлестывала меня, и я забывала про два года. А его второй год шел полным ходом!
В остальном же Виктор был на редкость тактичный человек. Его жизнь протекала в тысячу раз разнообразней моей, но он рассказывал самые крохи. Мои же дела знал в подробностях. Он и надоумил, пристыдив:
– Эх ты, Надежда! Была в гостях хоть у одного ребенка?
И вызвался идти вместе со мной. Так что моя тайна, когда в гости собрался и Аполлоша, оказалась под угрозой разоблачения. Но доверчивый Аполлон Аполлинарьевич ничего не заметил.
– А! Пресса! – зашумел он одобрительно. – Значит, как у вас говорится, продолжение следует?
– Следует, следует! – улыбался Виктор.
Больше всего нас интересовали Петровичи Поварешкины. Не хотели мы им никого давать, а дали сразу двоих – Мишу и Зою Тузиковых. Все-таки значок победителя соревнования, который Семен Петрович из кармана тогда вытащил, произвел впечатление. Он приберег его как последний аргумент в свою пользу, и чем больше времени проходило, тем все симпатичней мне этот аргумент казался. Но все-таки трое своих. И еще двоих взяли. Как это?
Нагрянули мы, конечно, неприлично. Будто ревизия. Могли бы, конечно, заранее предупредить, чтобы людей не обижать. С другой стороны, мы представляем ребячьи интересы. Нам нужна объективная ситуация, а не подготовленная.
Застали семью за едой. Анна Петровна забегала вокруг стола, велела всем тарелки приподнять, накинула на клеенку скатерть. Пришлось сесть к столу.
Еда была скромная – оладьи со сметаной, зато оладий – целая гора, и я вспомнила маму.
Надо же – вспомнила! И слова другого не подберешь, раньше мама из головы не выходила: «Как скажешь, мамочка», «Конечно, мамочка», «Бегу, мамочка!», – а теперь я ее вспомнила. На короткую записку, тот грозный ультиматум, так и не ответила – сначала не знала, что написать, а потом времени не нашла, и теперь прямо под ложечкой засосало. Ну и что ж, если такая записка в ее жанре? А вот эта гора оладий? Вспомни-ка наш старинный стол на гнутых ножках, огромное блюдо посредине и банок шесть – со сметаной и вареньями, малиновым, вишневым, абрикосовым, еще и еще. Все почему-то добреют за оладьями. Ольга болтает с Татьяной, Сергей подкидывает незлобивые шпильки мне, одна мама взирает на нас с Олимпа своего кресла, точно на шаловливых котят, ухмыляется чему-то своему. Чему? Ясное дело. Вон Анна Петровна тоже улыбается.
– Сколько же у вас едоков-то, – говорю я, – накормить и то целое дело!
Анна Петровна пугается, смотрит на Семена Петровича, а тот – на директора. В его взгляде вопрос. Неужели, мол, старая тема?
Но Аполлон Аполлинарьевич увлечен оладьями, подбородок его блестит маслом, вот-вот и он замурлычет, а Семен Петрович поворачивается ко мне.
– Разве это много? – говорит он. – Мой родитель одиннадцать имел, а вон Аня-то, спросите у нее, какая по счету?
Мы поворачиваемся к Анне Петровне, та смущенно прикрывает ладошкой рот и отвечает сквозь нее:
– Четырнадцатая!
– Аполлон Аполлинарьевич, – неприлично кричу я, – представляете?
– Бывало, за столом не помещались, – сказала Анна Петровна, – ели в две смены. Зато весело! – Она пригорюнилась. – Половина погибли да перемерли. – Опять оживилась: – Но зато другие живые! Народу надо побольше, чтоб семья сохранялась, – сказала она, о чем-то мгновение подумав. – А то нынче сколько? Один да один! Этак вымрем!
Оладьи запивали молоком, потом мужчины удалились на кухню покурить, а я перебралась к малышам. Заметных обновок на них не было, но носочки я знала, каждый понедельник новые, хотя и простенькие, хлопчатобумажные. Зоя носила очки в проволочной оправе и сейчас походила на старушку – читала книгу. Когда я подошла, отложила книжку и прошептала, чтоб не слышали Поварешкины:
– Надежда Георгиевна, можно мы каждый день ночевать здесь будем?
Миша строго взглянул на сестру.
– Не перебирай! Тут и так тесно!
Зоя не обиделась, послушно отвернулась к книжке, а я снова подумала о том, как отличаются мои ребята от остальных. Даже, пожалуй, от тройки Поварешкиных.
Хотя как знать.
К Мише и Зое подошел старший, девятиклассник Витя. В руках в него ребячьи пальтишки, валенки.
– Вставай, поднимайся, рабочий народ! – сказал грубовато Витя.
Миша и Зоя стали одеваться, а Витя помогал им, и никто ни разу не улыбнулся и не сказал ни слова, пока собирались на улицу.
Вышли они впятером с двумя санками.
Пожалуй, свою сознательность наш Миша черпал здесь.
20
Одним махом мелькнули Октябрьские. Единственное полезное, что я сделала за три выходных, – письмо маме.
Ее записочка свалялась в кармане, углы потерлись, моя обида состарилась вместе с бумажкой, и письмо маме вышло оптимистичным, даже восторженным. Я не написала про многое, что меня распирало, не написала, конечно, про Виктора и мой роман, зато на все лады расхваливала работу, свой класс и не постыдилась даже вложить в конверт газету с очерком Виктора. Конверт получился пухлый, мама, я знаю, десять раз перечитает мой отчет, а вот что последует дальше, никогда предсказать нельзя.
Я точно свалила с души тяжелую гору и снова кинулась в свою суету, в школьные хлопоты, в ночные прогулки с Виктором.
Тихо, будто тройка по мягкому снегу, подкатил Новый год.
Аполлон Аполлинарьевич устроил роскошную елку в спортивном зале – до самого потолка. Вся она сверкала от изобилия игрушек, даже хвои почти не видно из-за серебристых шаров, бус, серпантина. В радиодинамиках грохотала музыка, из городского театра приехал артист, разряженный Дедом Морозом, со Снегурочкой и целым грузовиком шефских подарков, затеяли хоровод, а я вглядывалась в лица своих малышей и снова делала маленькие открытия.
Зина Пермякова хохочет до изнеможения, так что даже лоб покрылся испариной – ее веселье чрезмерно, она отдается ему без всяких сдерживающих начал. Я пробираюсь к ней, отвожу в сторонку, вытираю лоб платком, прошу успокоиться: мне уже известно, что у моих малышей от веселья до истерики – один шаг.
А Саша Суворов прижимает к груди пластмассовую матрешку с конфетами и смотрит на елку, хоровод и разряженных артистов с недоумением. Его, напротив, надо встряхнуть, подтолкнуть к детям, заставить рассмеяться.
В самый разгар радости из толпы выбежала рыдающая Женечка Андронова. Я бросилась к ней, принялась целовать, расспрашивать, что случилось, но ничего не добилась. Женечка была одной из самых скрытных. Рослая – выше многих мальчишек – Женечка тянулась в хвосте класса по успеваемости. Причиной всему – развитие. В характеристике Мартыновой про Женечку написано, что она угрюма, внимание неустойчиво, легко отвлекается. Я бы могла добавить от себя: плохо выражает свои мысли, путается в названии дней недели, если перечисляет их вразбивку, сторонится даже девочек.
Я с тоской смотрю, как Андронова обедает. Без всякого аппетита, но много и может съесть бог знает сколько. Мартынова про это ничего не написала, думаю, умышленно. Каждому педагогу известно, что чувства сытости нет у умственно отсталых детей.
По всем правилам девочку следовало обследовать в медико-педагогической комиссии и отправить в специальную школу, но я пробовала бороться за нее. Звала не иначе как Женечка. Научила правильно называть дни недели в любом порядке: мы твердили их шепотом на ухо друг другу, у нас как бы получилась маленькая от всех тайна, и Женина угрюмость начала исчезать. Когда мы подбирали взрослых, я нашла для Женечки бывшую учительницу Екатерину Макаровну, и та уже помогла мне безумно много. Кто-кто, а Женечка первой среди всех нуждалась в матери! Не месяцы – годы требовались ей, чтобы ничем не отличаться от сверстников, а специальная школа, казалось мне, способна только утвердить девочку в своей неполноценности. Нет, я уж пока помолчу о комиссии!
Женечка проплакалась, я сказала ей какую-то пустяковую шутку, напомнила, что нос надо вытирать почаще, чтоб не оконфузиться перед мальчишками, повернула ее лицом к елке. Глаза у Женечки засияли, она кинулась в хоровод, совершенно не помня о слезах, а я вздохнула.
Как же это пробраться в каждого? В самую середку? Как умело и быстро ставить диагноз любому срыву? Ох, как далеко мне еще до такого!
Вокруг елки, гораздо больше похожей на Деда Мороза, чем загримированный, с бородой, артист, расхаживал Аполлон Аполлинарьевич. Его лысая голова напоминала елочный шар. Дед Мороз снова повел хоровод, и директор подбежал ко мне, потянул за руку.
– Победоносная! Ваше место в центре!
Я громко, в полный голос подхватила всеми любимую песню, и малыши мои задвигались быстрей.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла!
Когда дошла до места, как срубили елочку под самый корешок, пришлось выбраться из хоровода: заплакал Леня Савич. Да, слезы у моих были близко.
Есть примета: что произойдет с тобой под Новый год, весь год потом будет повторяться.
Женечка и Леня успокоились быстро.
Мои слезы – впереди.







