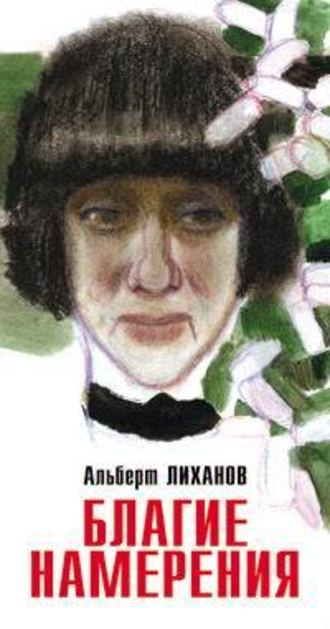
Альберт Лиханов
Благие намерения
21
На каникулы всех моих малышей забирал зимний лагерь шефов. Ехать с ребятами вызвалась Маша, тем более что, кроме малышей, из которых создали специальную группу, нам дали еще тридцать мест, и директор помог Маше отправиться со своими детьми.
Я в свободные дни собиралась съездить домой, Аполлоша не возражал, и мысленно я уже звонила у родной двери, она распахивалась, на пороге возникали Татьяна, Ольга, Сергей, все ахающие, потрясенные моим изменившимся, совсем взрослым видом, наконец появлялась мама и вместо какой-нибудь жесткой фразы начинала всхлипывать.
День, день, еще день, и к вечеру я дома.
А пока предпраздничное волнение, встреча Нового года в редакции у Виктора, и это для меня не рядовое событие.
Во-первых, я никогда не была в редакциях на праздничных вечерах. Наверное, у них что-то необыкновенное, семейный, узкий круг, особая обстановка, так что я появлялась там как бы на семейном основании, подруга сотрудника. А во-вторых, Виктор, похохатывая, без всякого зазрения совести сообщил мне, что я буду на вечере еще и как героиня газеты, так что, верней всего, мне дадут слово, надо подготовиться к тосту.
Я отшучивалась и отнекивалась совершенно в его духе, но сердцем понимала, что на вечере в чужой компании, да еще такой интеллектуальной, мне придется плыть по воле волн. Выглядеть, однако, следовало достойно, и я попросила Лепестинью еще днем занять мне в парикмахерской очередь.
Последние в году проводы малышей получились особенно шумными и суматошными. Предновогодние часы вообще всегда суматошны – люди еще гоняются за елками, посылают телеграммы, толкутся в магазинах, при этом, конечно, что-то забыто, скорости нарастают, автобусы набиты народом, вокруг давка и суета, но все, как правило, доброжелательны, у всех хорошее в предчувствии особого праздника настроение. Так что малыши наши, сверхъестественно возбужденные, хоть и кричали нам с Машей и Нонной Самвеловной новогодние пожелания, исчезли быстро, видно, поддаваясь настроению взрослых, без обычных своих копаний. Еще бы: многим предстоял первый Новый год в семейном кругу, пожалуй, с полмесяца они лепили из пластилина и клеили из цветной бумаги свои новогодние подарки. Что ж, пусть Новый год принесет всем им новое счастье!
Когда ребята разошлись, я ощутила непривычную опустошенность. Но Маша и Нонна потащили в учительскую. В тарелках маленькие бутербродики на деревянных шпильках, в стаканах пенится шампанское, все принаряжены и суетливы.
– Друзья! – воскликнул Аполлон Аполлинарьевич. – Вот и Новый год! Пусть он принесет счастье всем нам! И всем нашим ученикам. Особенно воспитанникам Надежды Георгиевны, Марии Степановны, Нонны Самвеловны! Им счастье необходимо больше, чем всем нам! Эта осень прошла в школе под знаком первого «Б».
– Пусть же, – перебила его Елена Евгеньевна, – когда-нибудь мы окажемся под знаком счастливого десятого «Б»!
Зазвенели стаканы. К нам подходили чокаться пожилые учителя, поздравляли, желали удачи, обращаясь почему-то прежде всего ко мне. Я снова оказывалась в центре внимания, и это как-то коробило.
– Ну что, подружки дорогие! – прошептала Маша. – За наш десятый! Дай бог ему счастья!
Мы выпили, Нонна Самвеловна покачала головой.
– Десятый будет без меня, – сказала она. – Я же учительница начальных классов.
– А я, например, – сказала Маша, – помню, как зовут мою первую учительницу.
– Странно, – улыбнулась я. – Неужели и нас кто-то будет помнить?
Потом была парикмахерская и время для раздумий.
Наверное, я все время улыбалась чему-то своему, так что парикмахерша наклонилась ко мне и неожиданно спросила:
– Замужем?
– Не-а! – засмеялась я.
– В новом году выйдешь! Предсказываю!
Я усмехнулась, но на всякий случай вгляделась в зеркало. Неужели похоже?
Я вспомнила панику в интернате, звонок из инспекции, скрипучий голос и неожиданный поворот темы:
– Целую тебя!
Сумерки за окном сменил густой мрак. Когда я вышла из парикмахерской, на остановках клубились толпы, а переполненные автобусы, надрываясь, с трудом набирали скорость. Поразмыслив, я двинулась пешком.
Вначале шагалось легко, я вспоминала предсказание парикмахерши и глупо улыбалась. Замуж? Готова ли я к таким переменам? Правда, дома мне объясняли, что чем раньше, тем лучше.
Поживем – увидим. Пока никаких намеков нет, и Виктор молчит. Может, сегодня? Как в рассказе у Чехова… Мы поедем с какой-нибудь ледяной горки после вечера, под утро, и он шепнет мне: «Я люблю тебя». Только уж я не стану сомневаться, как та дурочка, то ли ветер ей принес эту фразу, то ли послышалось… Да, конечно!
Мороз подстегивал меня, я то шла, то, припрыгивая, бежала и смеялась сама себе: ну какая же я бестолковая! Конечно! Виктор скажет. Именно сегодня. Ведь этот вечер почти семейный, как он объяснил.
Я катилась по ледяным дорожкам на тротуарах, раза два шмякнулась как следует, но даже не почувствовала боли.
Мне было смешно и радостно. Бежать, катиться. Мне было смешно и радостно от дурацких мыслей.
Может, я бегу одна в последний раз?
Нет, я, конечно, могу бегать и кататься в одиночестве, разве он запретит? Но я буду бежать тогда, зная, что не одна. Что где-то есть он. Ждет меня. Или даже не ждет – в командировке. Впрочем, и там тоже ждет.
Он ждет меня, а я его, и я могу бегать, и кататься, и знать, что я не одна, если даже одна!
О! Я совсем и забыла!
Лепестинья и Зина Пермякова глядят на меня восторженно. Стол: полон яств – холодец, заливное, пироги с капустой, с грибами, с луком – ой, чего тут только нет – и в двух рюмочках дрожит алая наливка домашней, с осени, изготовки.
– Заждали-и-ся! – стонет Лепестинья, а я бессмысленно трачу слова, что опаздываю, что не могу…
Стены моего закутка колышутся от примеряемых платьев, я выбираю макси вишневого цвета с крупными желтыми цветами по подолу. Выхожу к столу.
Зина ахает совершенно как Лепестинья, по-старушечьи, и я еще успеваю подумать, что маленькие дети великолепно приспосабливаются не только к характеру любимого человека, но даже к его возрасту.
– Надешда, – фамильярничает, балуясь, Зина, – шадитешь скорее жа штол! Проголодалишь, крашавиша?
– От красавицы слышу! – отвечаю Зине.
Лепестинья и Зинаида заливаются смехом – один сдержанный, старческий, с хрипотцой, другой звонкий, стеклянно-чистый – уж не спутаешь по голосам старого да малого! Но Зина и впрямь красавица. Она ведь теперь владелица целого набора прицепных бантов. В интернате хранит их в коробке из-под обуви, а здесь банты разложены на высокой спинке старинного дивана – точно клумба с цветами. Светло-зеленый с белыми точечками, темно-зеленый, белый с голубыми горошинами, пурпурный, спокойно-коричневый, голубой, белый, с красными полосками. Зина оказалась кокеткой, каждый час велит Лепестинье сменить ей бант, а Лепестиньин замысел мне известен – купить девочке платьев побольше, но с деньгами пока туго, и вот наделала бантов, они с любым платьишком годятся.
Сейчас Зина с нежно-розовым бантиком, на самую макушку Лепестинья ухитрилась приспособить фонтанчик из серебряного серпантина, так что в розовом блестят струйки светящихся огней, и девочка посматривает на себя в зеркало.
– Ну! – говорит Лепестинья, наливая Зине морсу в рюмочку. – Давайте выпьем за нашу Надежду!
– Надежда-то, может, и ваша, – сержусь я, – но Зине из рюмки пить не надо.
Лепестинья меняет посуду, они тянутся ко мне чокнуться, но тут уж я упираюсь как могу. Еще этого не хватало. Прийти к Виктору под хмельком? Я из-за этого даже в школе шампанское едва пригубила.
– Ну! С Новым годом вас! – воскликнула я, чмокнула Лепестинью, посмотрела в глаза Зине. – А тебе желаю, – что ж, совсем неплохое пожелание! – походить на тетю Липу!
Зина серьезно разглядывала меня и кивала на каждое мое слово. О боже! Как можно думать, что они маленькие и ничего не понимают!
– Я ее дочка, – сказала Зина, кивнув на Липу. – Она меня долго не находила. А теперь нашла.
И в это время раздался стук.
«Может, Виктор? – подумала я. – Догадался бы раздобыть такси!»
Но в комнату ворвалась Евдокия Петровна, зубной врач. Она вбежала в комнату, схватилась за мое плечо. Будто выстрелила в меня:
– Анечка исчезла!
22
Я проклинала свое вишневое макси с желтыми цветами. Оно путалось в ногах, мешало идти, а мы бежали.
Я наклонилась и задрала подол. Видок, наверное, ничего себе!
Сначала мы двигались в сторону центра, время от времени останавливаясь и голосуя мчавшимся машинам. Черта с два! Никто даже не притормаживал. Я попробовала забраться в троллейбус, какие-то подвыпившие парни, пошучивая, втиснули меня на подножку – дверь у троллейбуса не закрывалась, но Евдокию Петровну никто не подсадил, она не привлекла внимания парней, и мне пришлось спрыгнуть на ходу.
Я упала, больно ушибла колено, задрала подол и увидела лопнувший капрон и ссадину. Весело начинался новогодний вечер!
Время исчезало, безжалостно таяло, как ледышка, принесенная в тепло. Стыдно признаться, но я думала о времени, прежде всего о нем. А потом об Ане.
Это была нелепость, какое-то недоразумение. Заблудилась, город-то незнакомый, и сейчас в детской комнате милиции играет куклами. Первым делом, конечно, надо туда. И позвонить, позвонить!
Я подбежала к первому автомату, набрала две цифры. Аппарат молчал. До следующего пришлось бежать целый квартал, в который раз выслушивая подробности от Евдокии Петровны.
Анечка исчезла в сумерках. Попросилась на улицу. Ребята лепили там снежную бабу. Захватила морковку для носа бабе, ушла и пропала.
Евдокия Петровна обежала соседских детей. Все видели Анечку, она принесла морковку, и это запомнилось. Но потом исчезла.
– Я думала, она ушла в интернат, – пояснила Евдокия Петровна, – а там никого не оказалось, и дежурная дала ваш адрес.
Объяснение казалось мне глупым, просто-таки идиотским, позвони тотчас в милицию, и тебе немедля вернут ребенка. Детей у нас, слава богу, не воруют. Любой взрослый, увидев девочку, которая заблудилась, передаст ее милиции.
Евдокия Петровна как-то быстро переменилась в моем представлении. Прежде казалась мягкой и приветливой, а теперь все это обернулось безволием и глупостью.
«Как можно отдавать детей таким людям», – мелькнуло во мне. Точно это не я отдавала.
Я даже замедлила шаг. Взяла под руку Евдокию Петровну. Стало совестно. Боюсь опоздать на вечер и спешу ради этого вынести преждевременный приговор хорошему человеку!
Впервые за этот вечер я вгляделась в Евдокию Петровну. Лицо заплакано, постарело. Одинокий добрый человек. Анечке, конечно же, нет никаких причин сбегать от нее, это отпадает. Какая-то случайность, вот и все.
Пробуя успокоить женщину, я сказала ей, как Анечка, побывав в поликлинике, целый день показывала свой рот ребятам, и это было очень забавно. Не постеснялась и директора, вот детская непосредственность!
Врачиха слабо улыбнулась, но тут же принялась плакать.
– Больше не дадите мне Анечку?
– Сначала давайте найдем! – как можно мягче ответила я.
Автомат, который мы разыскали, отозвался удивительно довольным голосом. Будто человек только что сытно пообедал:
– Дежурный по городу майор Галушка слушает!
Милиционер с вкусной фамилией записал все нужные данные – Анечки, мои, Евдокии Петровны, пояснил, что детская комната пуста, и обещал объявить немедленный розыск.
– Позвоните через час! – предложил он.
– Звоню с автомата, – ответила я. – И мы очень волнуемся.
– Ну что же делать? – ответил Галушка. – Тогда приезжайте сюда.
Он оказался кряжистым, полнотелым, похожим на опиленный дубок, приветливым человеком. Сразу узнал Евдокию Петровну.
– Не помните? Как мне зуб драли? И плохо стало! Еще нашатырем отхаживали.
Такому крепышу, и плохо? Но Евдокии Петровне не до воспоминаний.
– Теперь вот мне нехорошо.
– Да ничего страшного не должно быть! – успокоил майор. Снова принялся выспрашивать подробности. Пояснил: – Уже ищут. Дана команда по рации всем патрульным машинам. Найдут!
Надо бы сообщить директору, подумала я, припоминая школьный телефон. Позвонить дежурному, узнать номер директора и… преподнести подарок к Новому году. Ничего себе сюрпризик!
Я представила Аполлошу – его лопоухое, добродушное лицо, и меня точно озарило: вот он стоит за моей спиной и говорит расфуфыренной матери Анечки Невзоровой про милицию.
– Послушайте, – волнуясь, сказала я Галушке, – у нее ведь есть мать, она лишена родительских прав и приходила однажды к школе. Любовь Петровна Невзорова.
– Попробуем, – кивнул майор.
Щелкнул селектор, раздались голоса, майор назвал имя Аниной матери. Повисла тишина.
Галушка включил радио. Оттуда слышались приглушенные, какие-то неясные звуки. Господи! Это же Красная площадь! Сейчас начнут бить куранты. Новый год, а мы…
– Поздравляю, дорогие женщины! – сказал, улыбаясь, майор, но я слышала его слова точно через стену.
Новый год я встречаю в милиции. Это, собственно, ничего. Только ведь у меня не простой Новый год.
Я припомнила, как бежала из парикмахерской, катилась по льду, думала, что нынче Виктор скажет мне что-то и моя жизнь изменится. Совсем! Может, и скажет, верней, сказал бы, но ведь меня же нет! Стало жарко. Выходит, я пропустила свой день? Пропустила собственное счастье?
Я спрятала лицо в руки, и слезы – точно плотину прорвало! – покатились из меня.
– Надеждочка! Георгиевна! – Евдокия Петровна поняла слезы по-своему. – Ну не плачьте, голубушка, она найдется, как же так, непременно найдется!
– Товарищ майор, – послышалось по селектору. – Таких в городе трое. Совпадают фамилия, имя и отчество. Одной сорок восемь лет. – Галушка выразительно посмотрел на меня. Я помотала головой. – Второй – тридцать. Третьей – четырнадцать.
– Скорей всего вторая, – проговорил Галушка. – Давай-ка адрес.
Перед тем как уйти, я попросила позволения позвонить. Набрала номер Виктора. Телефон молчал, но в тишине, среди длинных гудков, где-то играла музыка. Это барахлила связь, а мне показалось, будто Виктор веселится под эту музыку и забыл обо мне.
Мы сели в милицейскую «Волгу», майор, сославшись на необычность случая, поехал с нами.
В самом центре города, окруженная силикатными домами, стояла двухэтажная деревянная развалюха. Внизу свет потушен, зато наверху – аж стекла звенят! – гремит сумасшедшая электронная музыка – такого агрегата вполне хватило бы на пол-улицы.
Из-за грохота стук наш не слышали, Галушке пришлось толкнуть дверь рукой. В крохотной комнатке, половину которой занимал полированный шкаф, топтались две парочки. Увидев милицию, они разомкнулись, и в одной женщине я узнала ЛРП, Невзорову.
Она что-то говорила, но музыка рвала барабанные перепонки, и никто ничего не слышал. Галушка шагнул к системе – зарубежная стереофоническая! – нажал кнопку. От резкого перепада в ушах звенело, и голос Невзоровой доносился как бы издалека.
– Нет такой статьи, – кричала она, – чтобы матери не давали на праздники собственного ребенка, а спроваживали чужим!
Мужчины испуганно сдвинулись в тень. Да и какие они мужчины, мальчишки, намного моложе Невзоровой. Галушка проверяет их документы, руки парней подрагивают – от испуга и неожиданности.
Невзорова напарфюмерена так же, как и у школы, волосы в нарядной укладке, модное платье-миди. Будь она трезвой, в голову не придет подумать о ней плохо.
Я оглядываю комнату, но Анечки не вижу.
– Где ребенок? – строго спрашивает Галушка.
– Чем у нее прав больше? – снова кричит ЛРП, указывая на Евдокию Петровну, и поворачивается к майору. – Где такой закон, милиция?
Галушка спокойно обходит Невзорову и делает мне знак, чтобы я приблизилась к нему. За полированным шкафом, в полумраке лежит Анечка с закрытыми глазами. Я удивляюсь, как она спала в таком грохоте. Шепчу ей в ухо, чтобы проснулась. Но Анечка не просыпается. Она икает, и я слышу запах вина. Что же такое?
Громко говорю об этом Галушке.
– Ну а за это знаете что бывает? – спрашивает он Невзорову и добавляет презрительно: – Тоже мне мать!
Она явно пугается. Голос ее, до сих пор наглый, дрожит.
– Шампанского! Стаканчик! Клянусь! – повторяет Анечкина родительница, и я вдруг отчетливо сознаю разницу между этими словами – «мать» и «родительница».
Мы выносим Анечку.
Внизу Евдокия Петровна указывает дом, стоящий рядом. Вот оно что! По соседству с деревянной развалюхой!
Куда ехать? В интернат? Там пустынно и тоскливо, никого нет. Домой, к Лепестинье? Наверное, сладко спят. Я соглашаюсь пойти к Евдокии Петровне, и майор провожает нас к подъезду, помогает внести Анечку.
Девочка просыпается только на мгновение, когда мы поднимаем ей руки, чтобы снять платьице, осознанно глядит на меня и, словно участвовала во всех разговорах, внятно и спокойно говорит:
– А мамку жалко.
Глаза ее тотчас закрываются.
Евдокия Петровна раскладывает ее белье и все время вздыхает. А я думаю про Анечкины слова. Где же истина? Тут, когда пожалела? Или там, в школе, когда стыдилась, не хотела видеть, боялась за Евдокию Петровну?
Маленькое сердце неразумно, поэтому поступки противоречат друг другу. Но сердце не бывает маленьким, и поэтому в нем умещаются сразу жалость и страх. А может, в соединении противоположного заключено высшее согласие? Ах, как бесконечны твои вопросы, крохотный человек!
Я сижу в чистой квартирке и постепенно примечаю ее уют. Расшитые занавески, накидочки на подушках, дорожки на столе и комоде.
В тиши громко тикают часы. Я отыскиваю их глазами. Стоят на комоде. Четвертый час.
Четвертый час нового года. Неужели же целых двенадцать месяцев мне суждено прожить, как эту ночь?
Внезапно я вижу телефон. Набираю номер. Это бессмысленно: кто же ночью, пусть и новогодней, станет ждать звонка! Но трубку берут.
– Да! – слышу знакомый голос.
– Виктор, – говорю я, – у меня украли ребенка!
Он молчит немного, словно собирается с мыслями. И, разделяя слова, делая между ними холодные, просто ледяные паузы, спрашивает:
– И… часто… будут… красть?
Мне нечего говорить. Я держу трубку обеими руками, боюсь уронить – она стала очень тяжелой. Телефон стоит на подоконнике, и я вижу, что темный двор высвечивают тусклые лампочки из подъездов. В ближайшем углу снежная баба. С морковным носом.
– Алло! – испуганно кричит Виктор. – Где ты? Я сейчас приеду!
Но я кладу тяжелую трубку.
23
Спозаранку мы поднимаем Анечку и все трое едем ко мне. Что ж, новый год начался, пора снимать нарядное платье и жить дальше. Дальше – это значит отвести Анечку и Зину к школе, усадить в автобус, отправить их вместе со всеми в лагерь, а вечером идти на вокзал. Предчувствие дороги окатывало то жаром, то холодом. Еще бы – я увижу всех своих. Но зато не увижу Виктора. Словно гадала на ромашке: ехать – не ехать…
Мы шли по снежной тропе к дому Лепестиньи, я отыскала взглядом знакомые окна и даже головой потрясла, чтобы сбросить наваждение. В одном окне мне улыбался Виктор, и это можно еще понять. В другом, подперев рукой щеку, на меня грустно смотрела мама! Я кинулась вперед, обгоняя по рыхлому снегу Анечку и Евдокию Петровну, промчалась лестницей, коридором, хлопнула нашей дверью и ткнулась маме в плечо.
Я плакала, никого не стесняясь, и мне становилось легче, свободней, проще, будто со слезами выходила из меня тревога, обида на испорченный вечер, ссора с Виктором, непонимание родного дома…
– Будет, будет! – говорила мама. – Какой пример подаешь своим ученицам!
Что-что, а одергивать она умела. Я торопливо утерла слезы, украдкой взглянула на Аню и Зину. Они разглядывали меня с какой-то особой сосредоточенностью. Ни радости, ни грусти – напряженная работа мысли. Событие, происшедшее у них на глазах, требовало осмысления. Слезы воспитательницы, ее мать… Тут могли быть и ревность, и жалость, и зависть.
Я одернула себя, наклонилась к девочкам, обняла их обеих, они ткнулись мне в шею, как несмышленые кутята, а я укоряла себя: слезы взрослых не проходят бесследно для маленьких.
Я ушла в закуток переодеться. Мама переговаривалась с Виктором – уже познакомилась, я все поняла, – обсуждали вполголоса какой-то новый роман из «Иностранной литературы». Люди читают романы, подумала я, а литераторша по образованию уже не помнит, когда брала в руки книгу. Ну да ладно, у них своя жизнь, у меня своя. Уж коли влезла в такое дело…
Отступать нельзя!
Да, именно тогда и именно там, первого января, в закутке, пришла ко мне с полной серьезностью эта мысль. Я держала в руках свое вишневое макси с желтыми цветами по подолу, неотразимое платье, которое так и не понадобилось мне, и думала о том, что отступать мне теперь нельзя, просто некуда, хотя хрупкий мой домик в новогоднюю ночь дал первую трещину. Словно предчувствия улавливали то, чего не могло еще видеть сознание. Может, именно поэтому подсознание требовало главного решения теперь, а не когда-то, чтобы прийти к трудному с готовностью не отступать? И оно возникло, еще не очень мотивированное фактами, но давно мотивированное чувствами, которым предстояло выдержать многое…
Я вышла из закутка успокоенная, подошла к девочкам, расцеловала их, поздравила с Новым годом. Все зашевелились, заволновались, стали собираться. От дома шли по тропке гуськом, как когда-то Маша со своим выводком.
Автобус уже отфыркивался у подъезда, окруженный взрослыми, и я снова почувствовала себя счастливой. Вон сколько родителей у моих сирот! И ведь, что ни говори, это моя идея!
Лепестинья и Евдокия Петровна толкались в ближних рядах, Виктор и мама стояли в сторонке – оборачиваясь время от времени, я ловила в маминых глазах удивление, – а я ходила по автобусу, считала головы моих цыплят, сбивалась со счету, начинала снова и опять сбивалась.
Вот мама видит меня на работе, первый раз видит меня не девочкой несмышленой, а человеком, которому доверили детей, и каких детей! Наверное, она смотрит на меня, и ее разбирает страх. Еще бы, сама никогда не взялась бы за такое страшное дело – вдруг что случится? – а дочь взялась, уехала куда-то вопреки ее воле и вон работает хоть бы хны, работает с такими тяжелыми детьми и не робеет. Напротив, что-то такое у нее получается, даже газета написала.
Но никакая газета маме не заменит этой сцены. Автобус, дети в нем, я их пересчитываю, сбиваюсь без конца, потому что к каждому наклоняюсь, говорю что-то в напутствие, целую, поздравляю с Новым годом, желаю каждому свое, особенное, дорогое ему, а известное только нам вдвоем да еще, пожалуй, тете Маше.
На прощание целуемся с Машей. Автобус, точно облитый инеем, белый, волшебно новогодний, исчезает, я объясняю взрослым, когда дети вернутся из лагеря.
Эти взрослые окружили меня хороводом, кивают, улыбаются. Никанор Никанорович необычайно громко – вот не знала таких способностей! – говорит от имени остальных.
– Мы вас поздравляем, Надежда Георгиевна, благодарим вас, низко вам за все кланяемся и желаем удач, счастья, – он чуточку косит в сторону Виктора, – и любви!
Взрослые дружно смеются, а Никанор Никанорович продолжает:
– Да, да, любви, вы еще молодая, у вас еще будет много собственных детей, несмотря на то что и сейчас их у вас хоть отбавляй!
Ко мне целая очередь, и я долго прощаюсь, пожимая каждому руку, желая успехов, выспрашивая подробности из жизни наших общих детей.
Наконец площадка у подъезда пустеет, остаются мама и Виктор.
Нам надо поговорить с Виктором, про многое поговорить, но он вежливо кланяется, просит меня позвонить, когда буду свободна, и удаляется.
– Что ж, – говорит мама, глядя вслед уходящему Виктору, – все вполне удовлетворительно. Даже хорошо.
«Отлично» мама боится поставить, слишком строга, но я ей прощаю это, прячу свое лицо в ее пушистый меховой воротник. Теперь можно. Теперь никто не видит, и мы одни. Наконец встретились.
Не хотелось свидетелей, чужих ушей, хотя бы и доброжелательных взглядов, и мы побрели по городу, еще сонному после встречи Нового года.
Небо было серовато-белесым, сквозь эту кисею проглядывал мутный солнечный круг, тротуары переметала поземка, и идти приходилось с трудом, проваливаясь в мягком снегу, но я не замечала этой трудности, а без умолку говорила…
Время от времени мама поглядывала на меня смеющимися, влажными глазами, я прижималась к ней плотнее, целовала в щеку, снова и снова возвращаясь к мысли, которая пришла мне в первый миг, у Лепестиньи: как ужасно, когда человек одинок – взрослый человек! – как ужасно, если ему некого обнять, некому поплакать, но как потрясающе ужасно, если человек испытывает одиночество с самых малых лет. Если он всегда одинок!
– Нет, ты понимаешь, про что я? – тормошила мамин локоть. – Ты можешь вообразить, как это невозможно больно? – Я снова прижималась к ней. – Что может вызвать одиночество с детства? Одну боль. И одну злость. А мы должны воспитать добрых людей!
– Ты очень впечатлительна, – повторила мама несколько раз. – Ты чересчур впечатлительна. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу.
– Слишком? – удивилась я. – Разве это слово подходит к таким маленьким детям? К таким обездоленным? Их нужно любить только слишком!
Мама поглядывала на меня с тревогой. Спрашивала:
– А хватит твоего сердца? Моего бы не хватило. Я бы не смогла.
Хватит или не хватит? Думала ли я об этом? Нет. Молодость легко принимает трудные решения, не очень задумываясь о будущем, и я не думала никогда, хватит ли меня, надолго ли хватит и что я смогу выдержать.
– Надеюсь, – отвечала я маме и повторяла придуманное утром в закутке, когда стояла с вишневым модным платьем в руках, как та царевна-лягушка, – теперь отступать некуда!
Царевна сняла лягушачью кожу, чтобы повеселиться, а я макси-платье, в котором не успела потанцевать с Виктором, все выходило как бы наоборот, даже решение мое ни от кого не зависело, ни от какого волшебства, но отступать действительно некуда!
– Не надо красоваться, доча, – сказала мама, все так же ласково улыбаясь, – отступать тебе есть куда. Это дом. И запомни простую истину: если ты и потерпишь поражение, жизнь этим не кончается. Жизнь свою человек способен начать снова не раз.
– Ты о себе?
– Прежде всего о тебе.
Я благодарно заглянула ей в глаза. Нет, мама говорила о себе, первый раз говорила так. Может, вся ее властность и жестокость оттуда, по той причине? Ведь мама начала жизнь сначала после папиной смерти, у нее свой опыт, и он властвует ею.
Папа умер, едва я родилась, а Оля и Сережка были школьниками. Он обожал маму, царицу семьи, и все самое тяжелое брал на себя. Отец умер от тяжелой, мучительно изгрызшей его болезни, и мама начала жизнь заново, став единовластной хозяйкой дома и вершительницей наших судеб.
На все это намекала мне когда-то тетка, мамина сестра, но теперь, после маминой фразы, я как бы со стороны увидела ее жизнь. Будто ясней наводила фокус в фотоаппарате.
Жесткость требовалась маме, чтобы сладить с собой, чтобы из покровительствуемой стать покровительницей. Советоваться с нами в детстве она не могла, а потом уже и привыкла не спрашивать, а судить…
Но я? При чем здесь я?
Впрочем, если дочь говорит, что ей некуда отступать, мама всегда укажет выход… Надеюсь, такого не будет!
Целую неделю бродим по городу, возвращаясь домой только спать, обедаем в кафе и даже ресторане, ходим в кино, катаемся на тройке возле городской елки, отправляемся в театр, и на этот раз я смотрю жутко провинциальный спектакль, который мы пропустили с Виктором, проболтав в фойе, – словом, ведем себя легкомысленно, как девчонки, нисколько не думая о завтрашнем дне.
Время от времени мама порывается меня спровадить к Виктору, и сердце сладко замирает при этих разговорах. Но я не решаюсь оставить маму и только звоню в редакцию по автомату, краем глаза наблюдая, как мама отворачивается, стараясь не слышать моих междометий.
Однажды мы забрели в художественный музей, пристали к экскурсии, и мама, знаток и почитательница изобразительных искусств, пришла в восторг от прекрасной коллекции. Тут были подлинники Венецианова, Боровиковского, Федотова, подлинники, неизвестные маме, и она стыдила меня почем зря за то, что я, словесница – подумать только! – впервые, да и то случайно, из-за мамы, пришла в этот музей.
Экскурсоводом оказался мужчина неопределенного возраста, без пиджака, несмотря на зиму за окном, в голубой поношенной рубашке с нарукавными резинками, как у счетовода, в коричневом, с белыми горошинами галстуке-бабочке.
Мама внимательно слушала его, время от времени согласно кивала головой, а в конце поставила отметку: пять с плюсом. Пояснила:
– Приятно слушать! Увлекательно, серьезно, чувствуется настоящее знание.
Мы уже одевались, когда странный человек подошел ко мне.
– Как ваши дети? – проговорил он, опасливо поглядывая на маму.
– Спасибо. Все хорошо, – ответила я. Добавила, взглянув на маму: – Нам очень понравилось, как вы рассказывали.
– А зря! – Он словно не слышал меня. – Зря вы испугались отпустить со мной малыша. Как было бы хорошо вдвоем!
Он произнес это с такой тоской, что я потащила маму за руку.
– Спасибо, – бормотала я смущенно. – Очень интересно.
На улице рассказала, как этот астроном, работающий в музее, просил ребенка.
– Может, он и прав? – спросила мама. – Важен мотив, которым руководствуются. Искренность.
– Допускаю, – ответила я. – Но мы не имеем права рисковать.
– Вся твоя затея – риск, – усмехнулась мама.
– Ты так думаешь? – поразилась я.
– А ты не догадывалась? – сказала мама и сочувственно вздохнула. – Дочь, просто ты не знаешь людей. Но ничего. Это поправимо.







