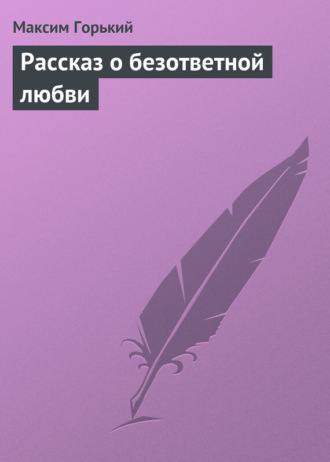
Максим Горький
Рассказ о безответной любви
– «Вы, говорит, в какой роли выступаете, – сватом брата вашего или соперником ему?»
– Но тотчас же нахмурила брови и, сердито блестя прелестными глазами, с досадой заговорила, что с неё довольно любви мальчиков, стариков, военных, штатских, полицейских и революционеров.
– «Поймите, говорит, я хочу серьёзно заниматься своим делом, и ничья, никакая любовь не соблазняет меня».
– Сидела она, поджав ноги под себя, на диванчике, в малиновом бархатном капоте, – она очень любила бархат, – на бархате серебряные, с финифтью, старинные застёжки, волосы распущены, волосы у неё изумительного обилия и густоты. Смотрит на меня отталкивающими глазами и говорит:
– «Не мешайте мне. Скоро я уеду за границу, летом буду играть в Липецке, и тем временем брат ваш вылечится от детской болезни. В его годы – это легко проходит».
– Ну-с, я был очень успокоен. Сам я, конечно, уже и тогда любил Ларису Антоновну, но тогда это ещё не было известно мне. Теперь я знаю, что полюбил её с первого удара глаз. Сразу. Это – бывает при несчастных случаях. Они – всегда – сразу.
Он замолчал, и, пользуясь паузой, я спросил:
– Действительно – красива была она?
– Разве не видите? – строго сказал он, кивнув головой на мольберт, и поучительно добавил:
– Для других, может быть, и не так красива, но каждый из нас любит самую прекрасную женщину… На первой неделе поста она уехала, поручив мне все свои дела. Уехала. В цветах, провожаемая восторгами поклонников.
– Один из них, товарищ прокурора, сказал мне, с завистью:
– «Счастливец вы».
– Счастье же моё заключалось в том, что однажды я, осмелясь до слепоты в глазах, поцеловал ей руку. Колю, когда он провожал её, она, совершенно напрасно, поцеловала в лоб, сказав:
– «Живите счастливо, юноша».
– И вот остался я с Колей. Он сидел дни и ночи у себя наверху, за книгами, похудев, печальный. С ним – Богомолов. Как-то, за вечерним чаем, я спросил:
– «Коля, ты сердишься на то, что судьба улыбнулась мне?»
– «Нет, говорит, не сержусь, но мне тяжело, потому что я чего-то не понимаю…»
– Я, кажется, говорил, что в нём была черта упрямства? За эти месяца он как-то незаметно вырос, стал твёрже. И ещё более книжным. Говорить с ним стало мне труднее. Так, в некотором отчуждении, мы прожили до лета, а когда, в июне, Лариса Антоновна приехала в Липецк, Коля тотчас же отправился к ней. Я прожил шесть суток в тихом отчаянии, по ночам у меня волосы на висках шевелились от страха. Я знал, чего боялся. Так и вышло: на шестой день Лариса Антоновна прислала мне письмо, слова в нём торчали иглами, и даже от бумаги шёл презрительный запах. Она писала:
«Ваш брат сказал мне, что вы хвастались пред ним, будто я живу на содержании у вас. Отвечайте немедля: говорили вы это? Отвечайте как честный человек, каким я вас считаю». Как честный человек я не мог ответить. Я уже ради её отказался от девушки, невесты, которая любила меня. Из-за неё я потерял любовь к брату и чувствовал, что вся моя жизнь подорвана, покачнулась. Я ответил по телеграфу одним словом: нет.
Человек поднял руку вверх, как это делает свидетель на суде, принимая присягу, и твёрдо, с глубоким убеждением сказал:
– Уверяю вас – ответить иначе я не мог! Понимаете? Не мог.
Синие белки его глаз налились влагой, он смотрел на меня тупо, как слепой, и, растирая пальцами горло, дважды, точно собака, щёлкнул зубами, потом, покашливая, продолжал сипло:
– Я думал, ожидал, что Коля… сделает что-нибудь… Думал, что Лариса Антоновна тоже… например – соблазнится его юностью. Но он, через два дня, прямо с вокзала явился ко мне в контору, не раздеваясь, фуражка на затылке, точно пьяный, но прямой, как солдат, страшно близко подошёл ко мне и сказал:
– «Пётр, ты – мерзавец».
– Тогда я закричал ему:
– «Послушай, ведь я тоже, – пойми ты меня! – я тоже люблю её. Ведь вот я уже и не ждал тебя, думал – застрелишься ты, и – не боялся этого, не жалел. А – я ведь люблю и тебя, брат, поверь. Но если наваждение это неодолимо, – что же мне делать?»
– Он снял фуражку, сел и смотрит на меня, потемнев; видно мне, что испугался он, убито мигают глаза его. Я говорю:
– «Ты красив, ты умнее меня, тебе легко любить, ты можешь говорить о женщине убедительно, ты ко всякой дойдёшь. Ты любишь воображением ума, а я – всей плотью, всей душой…»
– Он встал и запер дверь конторы. Подошёл ко мне, суровый, я думал – ударить хочет, но он только взял за плечо меня, встряхнул.
– «Вот как? – говорит. – Понимаю. Но – как же теперь мы будем жить?»
– Прижался я головой к руке его.
– «Не знаю…»
– Но была уже радость в душе у меня; чувствую, что он сильнее, лучше меня, это я всегда знал, но в тот час – особенно ясно стало. Явилась надежда, что с ним у меня всё обойдётся благополучно.
– «Не знаю, говорю. Ты меня умнее».
– «Зачем ты, спрашивает, оболгал и её и меня?»
– Ну, я не мог объяснить это, я уж сам не понимал – зачем? Он стал ходить по конторе, говоря, что надо ему уехать на время или перевестись в другой университет, но я прошу:
– «Нет, этого ты не делай. При тебе мне всё-таки стыдно, а без тебя я запутаюсь. Она в делах ничего не понимает, а я не могу ни в чём отказать ей».
– Он, усмехаясь, спрашивает:
– «Но как же теперь буду я, ошельмованный тобою?»
– Конечно, я выпросил у него прощение, и решили мы сказать Ларисе Антоновне, что я шутил, а он меня неверно понял и юношеская горячность его неосновательно возмутилась.
– «Ну, хоть так», – согласился Коля и братски пожалел меня:
– «Ах ты… Не думал я, что ты такой хитрый азиат. Хотя – не очень хитрый, не очень».
И, снова подняв руку, точно для присяги, человек сказал внушительно:
– Прекрасный юноша был брат мой. Честнейший юноша, великой души! Уж это я знаю…
За окном дождь всё плёл свою сеть, у фонаря остановилась чёрная, осклизлая фигура, подняла толстую ногу и, сняв галошу, стала колотить ею по столбу. Дрожал в стеклянной паутине огненный паук.
Выпив вино, не охмелявшее его, человек продолжал ломким голосом, приподняв плечи, крепко скрестив руки на груди:
– После этого мы с Колей начали жить так, как будто только что познакомились. Часто по ночам беседовали о разных разностях жизни, и Коля всё больше удивлял меня обилием и печалью необыкновенных мыслей. Глаза у него стали ярче от худобы лица и синих пятен в глазницах, а в лице явилась такая, знаете, серьёзная прозрачность.
– Чаще всего он говорил о том, что жизнь построена по форме пирамиды и хотя основание её широко, но – гнило, непрочно, может раздаться под тяжестью, и тогда всё рухнет, развалится. Говорил он задумчиво, пощипывая усики, и усмехался.
– «Другой формы не могут иметь ни жизнь, ни мысль. Мысль тоже строится пирамидой: основание – огромное количество фактов беспощадной борьбы, а вершина – ничтожный, остренький вывод».
– Мысли эти я очень любил и принимал их как правильные, но мне было неприятно, что Коля без спора соглашается с нищеанцем этим, с Богомоловым. Однажды обедал с нами Мортон, химик, управляющий фабрикой, замечательного ума француз! Богомолов проповедовал свои пустяки о свободе, а Мортон высмеивал его, утверждая, что суть жизни в разуме.
– Богомолов грубейше крикнул ему:
– «Таким разумом, как ваш, владеют и бобры и муравьи, это не свободный разум, а только обезьянье приспособление».
– И всегда этот попович грубил, раздражала меня его топорная грубость, широкая бородатая рожа, грязные, нечёсаные волосы. У него только голос был умный, а Коля думал, что он говорит мудро.
– О Ларисе Антоновне мы с Колей не говорили, только однажды, беседуя о ней с Павловым, он сказал:
– «Весь её талант – в красоте, а настоящего таланта, для сцены, нет у нёе. Я думаю – ошиблась она, не той дорогой идёт. Скучно и холодно жить ей, и вот она ищет, чем согреть душу. У одного профессора дочь, безногая, параличная девочка, играя, греется перед картинкой, на которой изображён костёр. Вот и Лариса Антоновна греется у воображаемого огня».
– Павлов закричал, заспорил, заметался, а меня очень обрадовали умные слова Коли. Верил я ему. Сам я не мог судить о способностях Ларисы Антоновны, и никакого дела не было мне до её игры. Когда она выходила на сцену, я ничего не видел кроме её, слышал только её ленивенький голос, следил, как двигается, точно по воздуху, её великолепная фигура. Легко она ходила и так, знаете, царственно, оказывая милость земле и людям. Восхищала меня гордая стройность ног её. И груди… небольшие, расставленные далеко одна от другой.
Закрыв глаза, человек скорбно покачал головой.
– О чём я говорил? Да. Обрадовало меня указание Коли, что она идёт не своим путём, подумал я, что ошибочный путь этот, может быть, приведёт её ко мне. И, когда она приехала, я пошёл к ней очень уверенно, но застал её в раздражении: летний сезон был неудачен, и она потерпела убыток тысяч в тридцать. Я тотчас сообразил, как успокоить её, сказал, что с её деньгами я сделал выгоднейшую операцию на жирах и могу предложить ей двадцать семь тысяч с несколькими сотнями, – нарочно не круглую сумму назвал, чтобы правдивее вышло. Обрадовалась она, иногда человека и деньги радуют.
– «Нет, серьёзно? – спрашивает. – О, вы действительно хороший друг. А как живёт ваш сумасшедший брат?»
– Я сумел убедить её, что Коля ошибся, не понял мою шутку. Нахмурясь, недоверчиво глядя в глаза мне, она спросила, взяв меня за ухо:
– «Шутка? Какая шутка?»
– «Однажды, говорю, я сказал ему, что если б вы согласились…»
– Она втиснула ногти в хрящ уха моего, сердито понукая:
– «Ну?»
– «Выйти за меня замуж», – говорю.
– «Врёте вы, – сказала она, оттолкнув меня. – Тут что-то не так. Не то было сказано. Да, да! Предупреждаю вас, сударь, со мною шутки плохи. Больно я ущипнула вас?»
– «Нет, говорю, что вы…»
– «Жалею. Но – я изо всей силы».
– Подумав немного, она сказала тихо:
– «Оба вы – очень милые люди, но – какие-то старомодные, опоздавшие родиться. Странные люди. Будем друзьями, но без шуток, да? Иначе…» – И погрозила пальцем.
– Удивительно одевалась она, – продолжал человек, вздохнув и пристально глядя на косые нити дождя за окном; ветер спутал, изорвал их, и теперь они сыпались стеклянными зёрнами в окно и на фонарь.
– И в узком платье, закрытом до горла, и в широком, всё равно – она точно голая. Понимаете? Да. Нагая. Такое гордое тело. Мне даже как-то страшно было смотреть на неё… И – досадно: неужели и другие так же видят её, как я?
– Дома Коля спросил: «Что это у тебя ухо-то?» Я сказал, что, подстригая бороду, ущипнул ножницами. Начался сезон. Город у нас, вы знаете, старинный, купеческий, особенных тонкостей публика не любит, ей нравятся русские пьески, особенно костюмные; а когда по сцене ходят люди в пиджаках и, не умея понять, кто, что или кого любит, скучноватыми словами обыденно говорят про это – в чём тут рассеяние скуки и развлечение? А Лариса Антоновна любила именно такие, новейшие пьесы играть – Гауптмана, Ибсена. Поэтому, когда товарка её Соснина, сварливая баба, играла «Чародейку» или «Марию Стюарт», публика шла в театр охотно, а Ларису Антоновну не любили, и, хотя Павлов писал о ней очень похвально, смотреть её ходили только дамы из-за модных костюмов, да молодёжь, а партер и ложи пустовали. Полных сборов она не делала, и это очень раздражало её.
– «В нашем мире, где не любить – невозможно, а любить – не умеют, театр мог бы научить любви к людям, к женщине, к жизни», – говорила она.
– Жила – широко; если не играет, то уж вечером у неё неизменно гости, ужин, вино, катанье на тройках. И все вокруг неё – как безумные. Павлов, зелёный, кашляя и задыхаясь, кричит:
– «Будем как солнце!» – Бемер, водевильная, цинические песенки поёт, Брагин, конечно, о евреях чушь порет, Маметкулов ржёт конём и тут же кричат – бог, смерть, любовь! Мороз по коже подирает от этой сумятицы. А Лариса Антоновна сидит царицей и нехорошо, чуждо улыбается. Часто вспоминал я слова Коли: действительно, вот – зажёг человек костёр, смотрит, как в нём сгорают люди в пепел, а самому одиноко и холодно.
– В такие вечера моя любовь к Ларисе Антоновне сапоги-скороходы надевала, а всех этих людей хотелось мне на мыло переварить. Мы, я и Коля, наблюдаем друг за другом, как два вора, намеренные украсть одну и ту же вещь, но каждый в свою пользу. Я думаю, что Лариса Антоновна понимала нас; как-то, выпив с горя, она задорно спросила:
– «А что, милые братья, не боитесь вы, что я съем вас?»
– Да. Так и спросила. Я – промолчал, а Коля ответил умной шуткой:
– «Пусть лучше съест львица, но не исцарапает кухонная кошка».
– Иногда мы с Колей, впадая в тоску, откровенно спрашивали друг друга:
– «Что, брат?»
– И – смеялись. Даже – смеялись. Коля, как-то, сказал:
– «Она солнечный зайчик».
– Вскоре мы перестали смеяться.
– Явился в городе англичанин Вильям Проктор, пеньковое дело интересовало его; по-русски он говорил плохо, и Маметкулов познакомил его с Ларисой Антоновной, она знала и английский и французский языки. И вот, знаете, сел этот Проктор монументом около неё и сидит, ворочая серыми глазищами. Высокий, точно литой весь, лицо загорелое, лоб разрублен, и что-то непреклонное в нём. Курит ужасно, водку пьёт, как телёнок молоко, и не пьянеет, только глаза щурит. Вид у него в это время такой, как будто удивляют его люди, но он им не верит и удивления не хочет показать. Только однажды, когда очень талантливая актриса, Соня Званцева, спела ему детскую песню, он прищёлкнул языком, точно выстрелил, и сказал ей:
– «Спасибо. Это больше всего, что я знаю».
– Поцеловал ей руку и спешно ушёл, ни с кем не простясь. С этого случая Лариса Антоновна сразу стала как-то тише, явилась у неё эдакая нега кошачья в движениях… ну, одним словом, вы понимаете…
– А Коля мой ещё более потемнел, вытянулся.
– «Вот, говорит, настоящий охотник на нашего зверя, этот – не промахнётся».
– Учиться Коля бросил, лежит в кровати до полудня, потом ходит целый день по комнатам в туфлях, неодетый и назойливо свистит. А я, узнав, что англичанин – картёжник, познакомил его в клубе с одним товарищем прокурора, о нём говорили, что он играет нечисто, но ловко. Я надеялся, что он выпотрошит англичанина. Он и выпотрошил. Но проигрыш частью пришлось мне заплатить. Позвала меня Лариса Антоновна и говорит:
– «Дайте мне пятьдесят тысяч под вексель».
– «Пожалуйста». – Дела её я знал лучше, чем сама она, и, разумеется, понял, зачем ей деньги. Не дать – не мог. Если б она приказала: «Приготовьте постель, у меня Проктор ночует!» – так я бы, вероятно, приготовил и постель. Может быть, зарезался бы потом. А вернее, нет. Не зарезался бы и тут. Ведь живу же. А бывало и хуже Проктора. Он скоро уехал, а Лариса Антоновна осталась в сердитой печали и ещё более резво начала кутить. Коля тоже пристрастился к вину. Очень тяжело вспоминать всё, очень, господи! Я предлагал ему: съезди за границу, в Петербург, в Сибирь. А он говорит: едем вместе.
– «Голубчик, ты же видишь, – у меня нет шансов».
– Он хмуро отвечает:
– «Погода – женского рода. Вот почему и капризна погода. А ты – хитрый, ты терпеливый, ты можешь дождаться хорошей погоды и даже – создать её».
– Он начал говорить злобно, насмешливо и смотрел на меня нехорошо. Сидит, качает ногою и, насвистывая, так смотрит, что мне становится тесно в одной комнате с ним.
– Весь пост Лариса Антоновна прожила в городе, на пасхе снова начались спектакли, а в среду на фоминой, ночью, Коля застрелился в Театральном садике, вот тут, за углом. Что-то вышло у него с Ларисой Антоновной, неизвестно что, но – вышло. Накануне смерти он был у неё, они вместе ходили на кладбище на могилу Павлова. Да. Застрелился Коля в сердце. Привезли его домой, завыл я волком, и всё для меня провалилось в чёрный мрак, как будто вихрем бросило в колодезь, в яму и там вертит, кружит, бьёт. Помню: зубы Коли насмешливо оскалены, а под его левым соском на груди – пятнышко, точно паучок. Ни крови, ничего, а только тёмный паучок. Потом такая, знаете, ненависть вспыхнула к Ларисе Антоновне, что, явись она в этот час, не знаю, что сделал бы я, но – было бы ей плохо. Приехала она с Брагиным к ночи, уже темно было, и вот так же дождь шумел, я её встретил в зале, закричал на неё, затопал, но она молча и так, знаете, властно отстранила меня рукою, спрашивает грубо:







