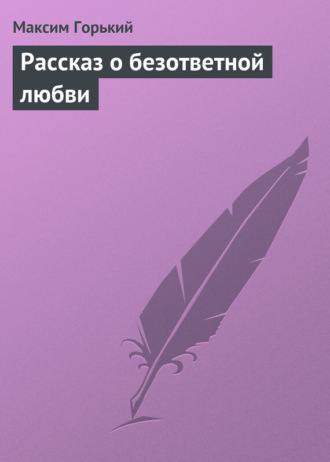
Максим Горький
Рассказ о безответной любви
– Вдруг я узнаю, что двое богачей пари держат: который из них одолеет её до Нового года? Пригласил я их обедать в ресторан, в отдельный кабинет, а со мной был револьвер браунинг, – Сибирь, знаете, и почти каждую ночь я возвращался домой поздно, – так вот, говорю я охотникам этим:
– «Вы это пари ваше – бросьте и вообще Ларису Антоновну не смейте беспокоить. У меня нет причин жалеть себя, и, если замечу я, что не убедил вас, – башки размозжу». Они сначала хотели навалиться на меня, но я отпугнул их, показав револьвер, тогда они поняли, что я серьёзно настроен.
– «Ну, говорят, ладно». Попытались напоить меня – не вышло, только сами напились. Один был худощавый, бородатый, на икону святого юродивого похож, а глаза – разбойника, другой – толстый, красный и отчаянный пакостник в речах. Спьяну бородатый всё перстень с рубином совал мне, уговаривал взять в подарок. Вероятно, всё это обошлось бы хорошо, но, на своё несчастие, Лариса Антоновна узнала о пари. Видал я её в гневе, но в таком – никогда! Стояла она спиною ко мне, глядя в окно на вьюгу, и медленно так, тяжело обернулась ко мне, – совершенно незнакомое лицо, ослепительно злое. Приказывает:
– «Позовите этих скотов ужинать ко мне».
– И вот – ужин; сидим за столом, четверо, Лариса Антоновна отлично одета, любезна, шутит и вдруг, среди шуток, говорит:
– «Между прочим, я пригласила вас сегодня затем, чтоб сказать вам: вы оба мерзавцы».
Они – хохочут, думая, видимо, что это всё ещё шутка, а Лариса Антоновна и начала отчитывать их, да так, что они раскалились докрасна и хоть избить её готовы. Ну, тут я их выгнал. Стоит она среди комнаты, крепко трёт лицо руками, смотрит на меня как на незнакомого:
– «Идите и вы, говорит. Уходите».
– Боязно было оставить её одну, но ослушаться я не посмел, ушёл. А через неделю, что ли, когда она снова играла, в театре, на верхах, начали свистеть. Там – свищут, снизу шикают на них, шум, брань, дамы визжат. Кое-как доиграла она акт, бегу к ней в уборную, она спокойно сидит перед зеркалом, пудрится, спрашивает:
– «Это, конечно, они устроили?»
– «Не знаю, но – наверное», говорю. Тут к ней ворвалась публика, сожаления, извинения, руки целуют, она милостиво улыбается, а глаза её горят растерянно и дико. На следующем спектакле снова свист, шум, в антракте кто-то подрался, вмешалась полиция, а на другой день приезжал к ней полицеймейстер, пьяница и грубиян, не знаю, что он сказал ей, но в тот же вечер она объявила мне, что едет в Пермь, там держал театр её же антрепренёр. И вот, когда сидел я в купе у неё, говорит она:
– «Что, Петруша, жалко вам меня? Это очень плохо, если дошло до того, что вы меня жалеть начали».
– И с эдаким страхом, тихо спрашивает:
– «Неужели нет у меня таланта, неудачница я, не могу победить людей? Скажите правду».
– Правду я знал, но – сказать не решился, она бы меня за эту правду… Утешаю как могу, а она всё говорит, спрашивает:
– «В чём моё несчастие?»
– Колёса гремят, за окном всё двигается, качается, смотрит она в окно, шепчет:
– «Падаю, падаю…»
– Никогда она не говорила так жалобно. Конечно, у неё были причины жаловаться: играла она уже более десяти лет, а имя её было негромко, в столицы её не приглашали, мотались мы с нею по захолустьям, да и деньги свои она уже прожила. Только красота и свежесть оставались с нею, как будто навек приросли…
Рассказчик замолчал, точно задохнулся, разжал руки, странно размахнул ими и вцепился пальцами в ручки кресла, наклоняясь вперёд, глядя в мутное, сырое пятно света за окном, в пузырь опаловый, пронизанный стальными нитями дождя. Минуты две он слушал, расширив глаза, тихий плеск и шорох, настойчивое журчание воды, стекающей по жёлобу. Серое, сухое лицо его обострилось ещё более, когда он заговорил снова:
– Приехали мы в Пермь. Над городом, во тьме, снежная буря, вой, свист, стон, эдакое адово веселье, и двигаешься как будто не по земле, а – сорвало тебя с земли и несёт куда-то в белых тучах. Дня три гудела эта тоска, и вот, как-то вечером, приглашает меня Лариса Антоновна чай пить к ней; пришёл я; сидит она сиротливо у стола, в капоте бордового цвета с золотом, волосы распущены, и точно девушка, знаете. А ей было уже почти сорок. Сидит ласковая, тихая. Похудела она за эти дни.
– «Милый вы мой друг, говорит, бедный вы мой друг, плохо было бы мне без вас, нянька моя. И вот за то, что вы так бескорыстно любите меня, – я вам испортила всю жизнь, да? Испортила?»
– Я – не вытерпел, никогда ещё она не говорила со мною так, упал на колени, целую ноги её, бормочу:
– «Испортили, да…»
– Гладит она голову мне, шепчет:
– «Непоправимо?»
– Горячо капают на шею мне слёзы её. И тут, знаете, впервые овладел я ею, в углубление несчастия моего. Опомнился, – вижу: сидит она полуобнажённая на постели, укладывая груди в лиф, лицо у неё спокойное, слышу задумчивый голос:
– «Ну, вот мы и поженились. Хорошо со мною? Теперь давайте чай пить. И – шампанского спросим…»
– Просто, знаете, смертным холодом обожгло меня, бросился на пол, к её ногам, рычу, реву:
– «Не любите вы меня, не нравлюсь я вам…»
– А она вскочила, бегает по комнате, бьёт себя кулаком в грудь и шепчет, задыхаясь:
– «Милый, голубчик, но – если нет… если нет у меня – не могу. Поймите – нет».
– Господи боже, да это – я понял, это и опрокинуло меня. Сижу на полу, качаюсь, а она, в слезах, мечется по комнате, вокруг меня, сверкает обнажённое тело её, холодное для меня…
– Кричит:
– «Распылила я сердце своё на потеху идиотов!»
– Я умоляю её: «Бросьте сцену, едемте за границу, денег у меня много, пожалейте себя ради Христа».
– «Нет, не могу, говорит, не могу! Не верю, что нет таланта у меня. Но вы должны уйти, довольно вам горя, довольно мук. Уйдите, ещё не поздно. Из жалости – не любят, это оскорбительно, когда из жалости. Вы – добрый, чудесный друг, но со мною вы погибнете, изломаю я вас…»
– Долго и – очень благородно, очень сердечно говорила она, но, разумеется, всё глупо, невозможно. Посадил её на диван, сам сел на пол к ногам её, говорю:
– «Никуда не уйду я от вас, не могу. Живите, как хотите, а я буду около вас».
– Она снова начала было целовать меня, но я сказал: «Не надо, не насилуйте себя». Как она плакала, боже мой…
Он и сам заплакал; по жёлтым щекам в бороду скупо катились мелкие слёзы, он тряс головою, не отирая мокрые щёки, и говорил надсадно:
– После того шёл я за нею неотступно ещё семь лет. Как будто сам дьявол невидимо встал между нами, держит нас за руки, но не пускает её ко мне, издеваясь надо мною. Невозможно, постыдно рассказать, что вытерпел я! И она тоже, и она не меньше. В театре у неё становилось всё более неблагополучно. С товарищами по сцене Лариса Антоновна никогда не дружила, и они постоянно затевали против её различные интриги, а теперь всё это усилилось, завихрилось круче, должно быть, потому, что она стала мягче с ними, теряя свою величавость и пренебрежение к ним. В жизни действует такой закон: чем дальше от вас люди, тем они лучше, а чем ближе – тем хуже. Брагин говорил: «Не сажай женщину на колени себе – на шею сядет». То же можно сказать вообще, о всех людях. Актёришки, конечно, влюблялись в Ларису Антоновну, актрисы ревновали и ненавидели её. Известно, что нет ничего легче лжи и клеветы. Раньше Лариса Антоновна умела не допускать людей близко к себе, жила, никому не завидуя, ничем не хвастаясь, – ни умом своим, ни тонким образованием, а тут я стал замечать, что она, теряя уверенность в себе, начинает понемногу и хвастаться и прихвастывать, – рассказывает, например, об успехе своём в таком-то городе, а я знаю – успеха у неё там не было. Конечно, и актёры знают это, и хотя сами они все – хвастуны, но над нею посмеиваются. Показывает она им мои подарки и говорит, что это ей публика поднесла. Выдумала, что её будто бы очень приглашал в Москву, в свой театр, сам Станиславский, а этого никогда не было. Не было-с…
– И ум свой начала она парадно выставлять пред людьми и образованием кичиться. А тут ещё толкнул её доктор один, странный человек, но тоже, видимо, не своей тропою шёл. Маленький такой, аккуратно выточенный, чистенький весь, даже как-то непохож на русского. Носил какой-то пиджачок странного покроя и, несмотря на свои седые виски, был похож на юношу; Коля, в его лета, вероятно, таким был бы. Острижен доктор ёжиком, смотрит через очки, тёмные, тихие глаза виновато улыбаются. Однажды Ларисе Антоновне нездоровилось, он пришёл и бросил якорь около неё, каждый день сидит. Не мог я понять: злой он или добрый, но – источен печалью, и потому так остро горьки его речи? Всегда речи его были неприятны, но говорил он их как будто поневоле, не от себя, и они не обижали. Рассказывает ему Лариса Антоновна о нездоровье своём, а он:
– «Это приближается к вам печальное безобразие, которое мы смущённо именуем красотою старости…»
– «Все мы, говорит, герои, ибо умеем забывать о том, что осуждены на смерть. И жизнь наша – унылая трагедия, полная милой весёлости».
– А о любви он выразился очень обидно для Ларисы Антоновны, сказав:
– «Любовь к женщине подобна печальному деянию бога, который тоже безуспешно пытался создать прекрасный мир из пустоты, из ничего».
– Казалось бы, Ларисе Антоновне надо обидеться, – какая же она пустота, какое ничего? Но она ничуть не обиделась, к великому удивлению моему. Разговаривали они целыми вечерами, и вскоре я вижу, что сошлась Лариса Антоновна с доктором. Разумеется, это было больно мне, я ведь всё-таки не терял надежду заслужить её любовь упрямством моим, но доктор не стал неприятен мне, я даже ещё больше подружился с ним. Уж очень прямодушен был он; однажды говорит мне:
– «Я знаю, что пью ваше вино и целую вашу женщину».
– «Нет, отвечаю, женщина принадлежит не мне, а несчастию своему».
– Он пристально посмотрел на меня и говорит стихами, – он любил стихами говорить:
– «Вы знаете:
Судьба сильнее угнетает нас,
Почувствовав, что мы ей поддаёмся»?
– «Вижу, что Ларисе Антоновне хорошо с вами, ну и слава богу».
– «Своеобразный вы человек», – сказал он.
– «И вы тоже», – отвечаю.
– Поглядели мы с ним друг на друга, улыбнулись. Выпили. Пил он очень много. Ларисе Антоновне действительно хорошо было с ним, стала она меньше кутить, больше сидела дома, стала спокойнее душою.
– Вот её беседы с доктором были поистине значительны и серьёзны, хотя оба они углублялись в те же обыкновенные мысли: о боге, о смерти и любви. И – так, знаете, углублялись, что мне даже страшно бывало, – как будто уже и не люди говорят, а… не знаю, чему уподобить. Как будто – нет людей, но просто два голоса, начисто оторванные от всего живого, состязуются в пустоте ночной тишины. Согласия между ними не было, но говорили они миролюбиво и внимательно прислушивались друг ко другу. Доктор утверждал, что жизнь человека подобна полёту пули, направленной в неизвестную цель, – траектория, говорил он, – и что никакого высокого смысла в жизни не заключается. Эти отверженные слова несколько напоминали мне Колю. А Лариса Антоновна с великой настойчивостью доказывала, что в жизни скрыт высочайший смысл, но чувствовать его может только женщина, возбудитель всяческих желаний, страстей, в том числе и порочных. Некоторые мысли её я принимал как совершенную правду из любви моей к неукротимой гордости души Ларисы Антоновны. Помню, например, она говорила:
– «Женщине доступно нечто, навсегда недоступное мужчинам: женщина чувствует зарождение новой жизни во плоти её, она является постоянным источником обновления сил мира. Она видит также, что ею зажигаются лучшие мысли, её ради совершают подвиги, от неё вся красота и поэзия, и если б не было женщины, вы думали бы только о пище, живя, как звери. На земле нет ничего твёрже и понятнее женщины, и вам не на что опереться, кроме её».
– Однажды она сказала:
– «Матери умирают всегда спокойнее отцов, потому что матерям доступно сознание непрерывности жизни».
– Доктор усмехнулся, говорит:
– «Животные умирают ещё спокойнее женщин».
– На этом они поссорились. Иногда – как будто вихрем – взрывалось что-то в душе Ларисы Антоновны, и мы с доктором отлетали от неё, как две пылинки. И всегда это выходило как-то вдруг, без причины, из-за слов. Помню, сидели мы втроём, Лариса Антоновна молчала, а я рассказывал о моей поездке в Москву, вдруг доктор тихонько говорит:
– «Преступники и женщины слышат, когда о них думаешь…»
– Как она рассердилась! Точно ожгли её эти слова. И – кутёж дня на три, а потом лежит в постели, сердце болит у неё.
– Доктор чахоткой страдал и скоро уехал в Швейцарию. Ну, тут уже началось совершенное безумие, – Лариса Антоновна как с горы побежала, молодость свою догоняя. Это, заметил я, со многими женщинами бывает: стукнет их по сердцу сорок ударов годовых, настанет бабий век, и закружится, бедняга, забыв о стыде, как будто в один год хочет съесть всё, что в жизни не доела. Так и Лариса Антоновна: завертелись около неё какие-то мальчишки, актёрики, которых она раньше презирала, косоглазые студенты, воспалены все, потеют, визжат друг на друга. С месяц у неё даже двое любовников было: куплетист и студент-стихотворец, себя называл гениальным поэтом, а Пушкина недорослем. Куплетист, конечно, хвастаться начал своей победой, ну, я ему дал по бритой морде, прибавил к пощёчине пять тысяч и сказал: «Уезжай, болван, в Калугу!» Нарочно городишко выбрал похуже, поскучнее. Уехал он…
– Это были самые тяжёлые годы жизни моей. Бывало, уйду от неё и всю ночь, до рассвета, хожу по улицам, сторожем сокровища моего, а оно украдено у меня, оно в чужих руках. Шагаешь в тишине, несёшь сердце своё, полное горькой обиды и тоски, думаешь: какой смысл жить без счастия, без ответной любви? Смотришь в окна домов; вот в каждом доме кто-нибудь любит, а ты – голоден и жалок в одиночестве твоём. Сколько таких ночей прожито мною! Тяжело в лунные ночи одинокому человеку таскать по земле тень свою.
– А Лариса Антоновна уже, знаете, начала фарсы играть, ходит по сцене в полуголом виде, ножки, груди показывает. Я – с ума схожу, умоляю её:
– «Едемте за границу!»
– Нет, не едет. Написал доктору в Швейцарию: не можете ли помочь, повлиять? Он ответил мне невразумительно и даже как будто насмешливо, не понял я его письма, только приписка в конце памятна мне осталась никчёмностью своей, приписка такая:
«Лев Толстой говорит: «Понятие вечности есть болезнь ума». А я говорю: любовь – болезнь воображения. Наиболее нормально относятся к любви кролики и морские свинки».
– Глупо как-то вышло это у него.
– Вот тоже заметил я у образованных людей неприятную привычку: много у них накоплено разных мыслей, и потому ли, что они любят хвастаться ими, точно купцы деньгами, или потому, что тяжело им носить эти мысли в себе, но – распускают они их не глядя куда, как – извините – мужики вошь свою. А между тем с мыслями надо бы осторожно обращаться, никто ведь не знает, какие – верные, какие – нет. Иногда мысль человеку – как собаке игла, закатанная в хлеб: проглотит собака этот катышок и – мается, нередко издыхает. Даже вот я, человек недоверчивый, иногда чувствую, что окормлен чужими мыслями и не свои слова говорю. Человек – не мыслями живёт, а бессмысленным желанием. Ум, учитель надоедливый, диктует ему: «Возле идёт человек». А ученик пишет: «Во зле идёт человек…»
– Это я, однажды, в училище такую диктовку написал, так учитель сказал мне:
– «Дурак, я тебя грамоте учу, а ты философствуешь!»
– Да. Безобразно закружилась Лариса Антоновна, смотрел я и думал: где благородство, где гордость её? До слёз, до отчаяния жалко было видеть, как она показывает со сцены тело своё, точно нищая язвы, милостыню выпрашивая. Дошло даже до того, что и на меня она стала обращать внимание, – это всего больнее и горше было мне.







