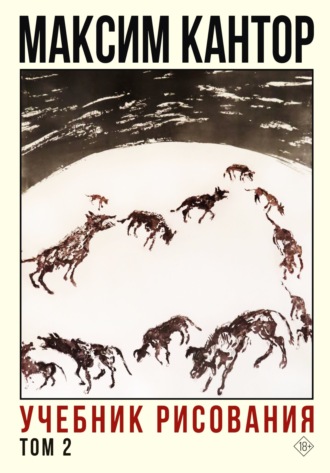
Максим Кантор
Учебник рисования. Том 2
Ну какую ценность для общества представляет житель блочного микрорайона, влекомый на работу поездом метро в восемь часов утра? Если призадуматься, так ровно никакой. И может быть, самый яркий момент в его никому не интересной биографии и состоит в том, что он отдал свою жизнь за демократию, за победу экономического прогресса, на посрамление тоталитарных идеологий. Не за кровавую собаку Чаушеску сложил он свою молодую голову, не за коммунистического спрута Милошевича, но за свободу вероисповеданий и совести – вот за что! Он, вероятно, и не мечтал о том, что его жизнь приобретет хоть какой-то смысл для истории. А вот, гляди-ка ты – приобрела! Ему еще и памятник, того гляди, поставят, и на мраморе имя его высекут. Вероятно, он игнорировал выборы, пренебрегал своими гражданскими правами, но, если договаривать до конца, то именно погибая в результате теракта, он и отдал свой голос в защиту демократии. Ему и не снилось проявить такую сознательность – но вот проявил же!
Подобное – аккуратное, но действенное – регулирование демократией стали применять в тот благословенный час Европы, когда был достигнут пик гражданских свобод – т. е. в золотые шестидесятые годы. Никакой диктатуре, никакому тирану не доверило бы общество управлять собой: оно возжелало само управлять своей частной жизнью и частной свободой. Никакой философии общих идеалов и правил не хотело свободное общество, оно призвало частных граждан – террористов именно на тех же основаниях, на каких призвало пылких юношей-интеллектуалов, чтобы те разрушали основы тотальной философии. Общество свободных демократов родило свою приватную философию, свою приватную эстетику, приватную экономику, приватные идеалы и приватную войну. Ни один из этих элементов не был случаен, ни от одного из них нельзя было отказаться.
И когда по окраинам столицы стали греметь взрывы, а несдержанные на язык журналисты (взять хоть неуемного Виктора Чирикова) принялись пророчить конец света, а взволнованный Соломон Моисеевич Рихтер схватился за сердце – люди циничные и рассудительные поняли: начинается предвыборная работа, и нечего сетовать – такая уж она, эта работа. Те граждане, что еще со сталинских времен привыкли видеть во всем руку власти, подозревали мамок и нянек в организации смертоубийства. «Ах, это все они! – восклицали эти нервные граждане, – это они так жестоко поступают, чтобы народ возжелал управления твердой рукой. Это нарочно для того сделано, чтобы мы голосовали за полковника с волчьим лицом». – «Да нет же, – отвечали им люди рассудительные, – это сама демократия так собой управляет». И поди разберись, кто прав.
IX
Был ли определенный ответ на этот вопрос? Пожалуй что и был – надо бы обратиться к Ивану Михайловичу Луговому, возглавившему предвыборный штаб нового кандидата в президенты. Может, он и ответил бы, но дел было слишком много у Ивана Михайловича в эти дни: он то ли вопрос не услышал, то ли отвечать не пожелал – отмахнулся своей единственной рукой, мол, не до вас. И действительно, страсти кипели. Тут вам и прокламации от Дмитрия Кротова, и громовая речь Владислава Тушинского, и Петр Труффальдино организовал концерты в глубинке – агитировать за свободную мысль. И уж вовсе к удивлению граждан появились в потрясенной столице плакаты с изображением хорька, поименованного кандидатом от блока звериных меньшинств. От какого такого блока, недоумевали тугодумы. Да вот как раз от этого – от блока униженных и оскорбленных. Так ведь это же, простите, животные. Ну и что же из этого? Не люди они, что ли? Ну, знаете ли. И терялись, и не находили что сказать, топтались перед плакатами. Но ведь и признать же надо: свобода – она только тогда свобода, когда без цензуры и лимитов. Да, можно запретить хорьку баллотироваться – но не является ли это первым шагом назад, в сталинские лагеря? К тому же художественное сообщество кандидатуру хорька поддержало – Яков Шайзенштейн съезд партии провел, Снустиков-Гарбо собрал подписи. И что важно – весело прошло собрание, заражались избиратели радостью.
Здесь важно отметить важную для демократического общества особенность: приватные институты (как то: искусство, экономика, бизнес и т. п.) занимаются своими собственными делами и не вырабатывают общей декларативной линии поведения. Искусству, этому бастиону свободы, как раз доверено противостоять любым проявлениям декларативности. Были времена – тоталитарные, скверные времена, – когда художник вмешивался решительно во все. Своим, часто некомпетентным, суждением он внедрялся в частную жизнь правительства и государства. Излишне говорить, что подобная шумиха свободному обществу ни к чему. Вносить смуту в непростую работу демократических институтов – зачем? Каждый пусть занимается своим делом. Некогда Сартр поднимал на стачки рабочих «Рено», а Хемингуэй агитировал помогать интербригадам в Испании. Много ли проку было в их суете? Да, скинулись на революцию профсоюзы – послали испанским рабочим половину того, что в неделю тратили на кино. И агитация Сартра даром не пропала: откликнулись рабочие заводов «Рено», провели забастовки протеста. Но не в защиту пролетариев всех стран выступили они. Забастовщики предложили на грязную работу определить паршивых инородцев, братьев по классу из недоразвитых стран, вот из тех самых «всех стран», с которыми им было предложено объединяться. Спрашивается: нужны были Сартр с Хемингуэем? И без них достигли бы тех же результатов, но вот суесловия было бы меньше. И разве в этом призвание художника – митинговать? И вот благословенное время, то самое время, когда и формировались новые демократические институты Европы, обратилось от митинга и призыва – к абстракции. Так создавалась новая, свободная эстетика двадцатого века.
А Хемингуэй с Сартром? Даже барон фон Майзель, мужчина солидный и не склонный к зубоскальству, и тот в разговоре с бароном де Портебалем посмеялся, едва речь зашла о Хемингуэе. «Признаться, барон, – сказал барон барону, – я поклонник Хемингуэя, но только в том, что касается рыбалки. А его взгляды на охоту меня оставляют равнодушным. Другое дело – ловля тунцов; здесь, признаю, он знаток». – «А литературные трофеи?» – «Какие же? Нобелевская премия?» – и бароны засмеялись. Действительно, роль человека, который тужится сказать нечто пророческое, – а это решительно никому не нужно – жалка. Прикажете именовать эту жалкую деятельность – искусством?
От искусства потребовалось иное, а именно: обратить процесс творчества в нескончаемую шутку, чтобы только не помешать государству заниматься серьезными вещами. Частная жизнь у нас – и частная жизнь у вас, но ведь надо же и понимать, что одна другой рознь. Есть люди, которым по должности положено заниматься серьезными вещами, они не нам чета, дело делают. Вот они-то всерьез и займутся нашей судьбой, так не отвлекайте их, пожалуйста. Вытворяйте на художественной сцене что душе угодно, веселитесь, пляшите, красьте волосы в оранжевый цвет, а попу в зеленый, но не мешайте тем, кто отвечает за вас и кому надо сосредоточиться, чтобы понять: сегодня вас использовать на растопку или завтра. И искусство восприняло этот отеческий совет. Сделавшись поголовно шутниками, все сколь-нибудь серьезное в этом мире художники и мыслители отдали на откуп чиновникам и генералам. А те с достоинством приняли и понесли эту ношу. В вашей семье – свои заботы, в нашей семье – свои, у каждого своя приватная роль. И скажите на милость, разве это не разумное распределение обязанностей? Каждому – свое, как гласит мудрая надпись на известных воротах. Правитель пусть правит, а художник пусть шутит – ну чем не республика Платона? И чем худо пошутить? Шутка украшает жизнь. Ведь, право, есть над чем посмеяться. Разве повода не было? Смеялись над диктаторскими режимами, над дидактикой. Надоели моралисты довоенного образца, осточертела риторика. Нынче можно договориться с начальством о повышении зарплаты, а не строить баррикады. Пришла пора победившему демократическому среднему классу пожать плоды победы. И пошло веселье: зря, что ли, расправлялись с диктаторами? И не будет больше диктаторов, не будет: посмотрите, чему учит демократическая философия: любое утверждение возьмем да и сведем на нет, деструктурируем приказ, и все тут. Постмодернизм внедряли как противозачаточные таблетки: чтобы дурачиться без последствий.
И веселились безоглядно, бесшабашно! Прыгал в танце по венецианской гостиной Гриша Гузкин с Клавдией Тулузской – он только что сходил в консульство и отдал свой голос за Диму Кротова. Будет, будет в России время, когда править ею станет интеллигентный и адекватный молодой человек; вот еще немного подождем, да через восемь лет наверняка Димочка у нас президентом станет. Наливай тосканское! Скакал по редакции «Двери в Европу» Петя Труффальдино с нарисованными жженой пробкой усами, а лидер правых сил Дима Кротов аккомпанировал его танцу, барабаня в кастрюльку: им только что сообщили, что набрали они аккуратно одинаковое число голосов, по три процента! Ах, да разве лишь это! А праздник в ресторане «Ностальжи»! Владислав Тушинский отмечал свои восемь с половиной процентов широко, бурно – здесь были и Борис Кузин, и Олег Дутов, да кого только не было: и мыслитель Бештау, и правозащитница Голда Стерн – лучшие собрались люди. Вот они, вглядитесь – те, кто решает будущее демократии! Среди прочих выделялся депутат парламента господин Середавкин – личность значительная. Низенький, с утиным личиком, вытянутым в сторону собеседника, Середавкин лишь поверхностному наблюдателю мог показаться фигурой незначительной. Те же, кто знал его, говорили в один голос: орел! Либерал-шестидесятник, из той славной когорты, что была сформирована легендарным периодом хрущевской оттепели, из тех ответственных людей, что не считали возможным уйти в подполье, но старались работать и приносить пользу обществу там, где могли, – депутат Середавкин успел сменить десяток должностей. В темные брежневские годы руководил либеральным изданием – пражским журналом «Проблемы мира и социализма», отдушиной свободной мысли. Именно он привлек тогда к сотрудничеству лучшие умы застойной поры – Савелия Бештау и прочих. В дальнейшем, по мере либерализации общества иные места работы находились для Середавкина: член наблюдательного совета «Росвооружения» (в непростой период конверсии и постановки военной промышленности на широкие рельсы рынка), затем посол в Германии, спецпредставитель президента в ООН, ныне – заместитель Тушинского в либерально-демократическом движении интеллигенции. Кто-то мог сказать, что Середавкин есть типичный представитель номенклатуры: меняет одно государственное назначение на другое. Но как быть, если положиться буквально не на кого, а этот человек верен и умен? Вот и сейчас поговаривали, что должность ответственного за права человека в нашей стране (омбудсмена, выражаясь на западный манер) свободна: недоволен президент шарлатанами, ее занимавшими, – болезненным диссидентом Козловым да нервным писателем Присказкиным. И самое время поставить на эту должность проверенного временем Середавкина – то-то права у нас расцветут! Объединит Середавкин усилия с господином Тушинским, и воспарит над просторами нашей Родины гордая птица демократии – развернет свои крылья и будет летать взад-вперед, всматриваясь в мерзлые поля и степи, выискивая добычу! Победа! А если уж кто хотел увидеть подлинный праздник в лучших традициях русской интеллигентной вольницы, он должен был хоть краем глаза заглянуть в «Актуальную мысль». Там Яков Шайзенштейн и Люся Свистоплясова праздновали победу хорька – обошел хорек и Труффальдино с Кротовым, да и Тушинского обошел – десять процентов! Каково? Или это не свобода? Так веселились, такие репризы отмачивали, что иным и ввек не додуматься! Обзавидуется иной долдон на такую вольность и на этакий карнавал. И наутро, с похмельной головой, глотая пиво, интересовались: а кого избрали-то все-таки? Ах, этого, полковника. Ну правильно, вероятно, это и есть самое разумное решение – сейчас, на этом переходном этапе.
Все знали, что выборы пройдут именно так. Знали это заранее и Герман Федорович Басманов, и Иван Михайлович Луговой, знали и Дупель с Балабосом. Люди серьезные, они сами шутить были не склонны, хотя на шутки свободолюбивой интеллигенции смотрели благосклонно. А впрочем, и сами порой отпускали остроту – и, положа руку на сердце, разве на действительность можно было смотреть без улыбки? Либералы избрали полковника. Никто их не заставлял – они сами так решили. Действительно, вот ведь потеха!
Принцип взаимной партикулярности в отношениях населения и власти (то есть такое положение дел, когда и управляемый, и управляющий выступают как сугубо частные лица и не напуганы иерархией) нуждался в иронии. В самом деле, отношения тирана и рабов на шутку не настраивают – до шуток ли? Монархия шутку любит, но лишь одностороннюю – шут не дождется от короля ответной шутки. Неравенство всегда серьезно. Когда же в диалог вступают два паритетных партнера, взаимная ирония уместна: ирония удостоверяет равноправие. В демократическом обществе власть выступает как частное лицо, как директор-менеджер. С менеджером надо познакомиться и, познакомившись, сказать: отчего же нам не улыбнуться друг другу? Вы у себя в ведомстве начальник, а я у себя на кухне командир. Вы своим подразделением командуете – нефть, финансы, налоги, армия; а у меня другие войска в подчинении – кастрюлька да поварешка. И мы равны, как равны меж собой генерал от инфантерии и маршал авиации. Я вас выбрал, чтобы вы электричеством занимались и водоснабжение организовывали. Вы надо мной подшутите (горячую воду отключите), а я на вас карикатурку изображу. Демократия впустила в общественную жизнь шутку – и газеты заполнились карикатурами, шаржами, фельетонами. И разве газеты только? Современное искусство затем и существует, чтобы частные люди – избиратели и власть, абсолютно автономные субъекты, – нашли общий язык и сумели улыбнуться. Современное искусство и есть этот общий язык. Следует сказать еще более определенно: современное искусство есть своего рода шутка, уместная в разговоре между властью и народом. Демократическое общество решило сделать общий язык как можно более условным и ироничным, дабы избежать директив и призывов. Какой язык существует при тирании? Сверху вниз идут приказы, а снизу вверх славословия или проклятья: язык этот прост и груб. А демократия нуждается совсем в другом языке, веселом и легком. Таких словес наплетем, что тоталитарному приказу через эту путаницу нипочем не продраться. Так громко будем смеяться, что и приказов-то никто не расслышит. Ну разве не остроумная оборона?
X
В качестве иллюстрации к данному положению уместно привести диалог популярного критика Труффальдино и популярного художника Дутова. Их диалог именно и представлял собой тот специфический метаязык, способствующий общению.
– Коль скоро в нашем обществе важнейшей компонентой социализации является коммуникация, – говорил Труффальдино, – то наиболее адекватными сегодня являются те художественные произведения, которые провоцируют дискурс, способствующий коммуникативности двух полярных сингулярностей.
Любой другой собеседник растерялся бы от таких слов, Олег же Дутов расцвел в улыбке, заслышав знакомую речь. Буквы и звуки складывались в слова, которые обозначали для него знакомый предмет. Если какое-то слово он и не вполне понимал, все вместе эти слова создавали пленительную мелодию. Он готов был слушать эти слова бесконечно – ведь не всякий любитель музыки способен уследить за особенностями тональных и атональных чередований в произведении, а уж ноты читать точно не обязан. Но разве оттого, что он не знает нот, музыка менее пленительна? Дутов живо включился в беседу.
– Безусловным конструктом для сообщения сингулярности нужной векторности, – заметил Дутов как бы между прочим, – я считаю создание такого симулякра сингулярности, который бы имплантировал дискурс нетождественной себе субстанции во внеположенный ему объект.
– Однако, – продолжил мысль Труффальдино, легким кивком дав понять, что учел реплику собеседника, – конструкт симулякра актуален лишь постольку, поскольку симулякр не вполне однозначно адекватен экстраполярности объективного бытия. Иными словами, если допустить, что объективная социальная данность компенсаторным путем заимствует образную данность симулякра, конструкт симулякра неизбежно утрачивает свое имманентное значение.
Что ответил Дутов на это утверждение, не столь уж и важно. Важнее другое: собеседники наслаждались беседой, улыбались друг другу и были счастливы.
Сторонний наблюдатель бы растерялся: а что же они, собственно, говорят? В шутку или всерьез? Возможно, этот непосвященный и спросил бы: зачем они говорят на таком непонятном языке, если можно сказать понятно? Или он спросил бы так: зачем выдумывать специальный язык для общения, если сама действительность дает темы и слова? Или он спросил бы так: если единственный язык, на котором все могут договориться, язык непонятный и нелепый, то, вероятно, вся наша жизнь нелепа? Если все поголовно шутят, значит ли это, что ничего серьезного вообще не существует? На что похожа конструкция общества, которое идеализировало принцип деструкции? Шутка длится долго – но бесконечно ли? Допустим, мы все пошутили, в шутку избрали полковника госбезопасности президентом – это смешно или нет? Может быть, не смешно?
XI
А впрочем, так ли надо знать ответ на подобные вопросы? Может быть, и права Татьяна Ивановна Рихтер, что в сердцах говорила своему супругу: зачем думать, кто там правит? Кого избрали, того и избрали – и пропади они все пропадом! Зачем голову ломать, что с миром будет? Ты у себя в доме порядок навести не можешь, теоретик! Или, может быть, права была Елена Михайловна, сказавшая своему сыну Павлу: я всю жизнь прожила в семье Рихтеров и ни разу не улыбнулась. Все у нас в семье было так серьезно, даже молоко прокисало от скуки. Счастье для человечества – и не меньше. Я все ждала, когда они посмотрят на себя со стороны – и посмеются. Так и не дождалась. Неужели не могу я теперь порадоваться и посмеяться, благо еще не старуха?
И весь мир рассуждал примерно так же. Оставим серьезность в прошлом, говорил себе просвещенный мир. Оставим серьезность в хрестоматиях по истории, к черту скучные утопии. Нынче не время парадов, но время веселых перформансов! Догматиков мы прогнали, наняли прогрессивных администраторов, чтобы не забивать себе голову циркулярами. Пусть зубастый английский премьер, вороватый итальянец, русский чекист – пусть они работают, на то их и держим. Пусть, пусть вкалывают! Нас теперь не соблазнишь так называемым общим делом – дудки! Пусть они в частном порядке, в своей правительственной семье занимаются бумажками. Ну, бюджет или, там, оборонная промышленность – что там у них за дела? Вот пусть себе и решают. А мы у себя в семье своим делом займемся, в шарады поиграем. И демократический мир смеялся. И веселье, забытое во времена чопорных диктатур, охватило либеральное человечество. Прогрессивные мыслители сочиняли презабавные эссе и давали интервью в порнографических журналах. Открывались рестораны, и мужчины, переодетые женщинами, лихо отплясывали на высоких каблуках. Зажигались огоньки ночных клубов, язвили остротами конферансье, забавляли репризами поп-звезды, художники рисовали комиксы и делали уморительные проекты – смеялись решительно все. Разумно устроил демократический мир свои дела, оградил частную жизнь свою от внешнего мира, выборы правителей прошли удачно и здесь, и там, повсеместно назначили порядочных, проверенных администраторов, людей управляемых и мелких, отчего же не посмеяться. И выбранные администраторы тоже хохотали – разве чужды они здоровой иронии? Разве повода нет для смеха? Им отдали все то, что с кровью выгрызали для себя их предшественники; то, за что иные платили жизнью, им подарили, как хлопушку на Новый год. Не забавно разве? Народ – т. е. демократическое открытое общество – смеялся над правительством, а правительство – над народом. Мы посмеемся над ними, над этими смешными, в сущности, менеджерами, которые что-то такое там подсчитывают, дебет с кредитом сводят, говорили люди свободолюбивые. Мы посмеемся над своими правителями, говорили просвещенные люди. А правители – если они, конечно, умеют – путь посмеются над нами. Дело-то частное. У них – своя семья, у нас – своя. И обе семьи смеялись. И порой непонятно было, кто смеется громче.
Миром правят свободолюбивые шутники, что же может быть лучше? А эффективно ли такое правление? Весьма эффективно: шутка с приказом сочетаются преотлично. Это только во времена кровавых диктатур министры представлялись чудовищами с недобрыми физиономиями, но те времена канули в Лету. Современный министр культуры Аркадий Владленович Ситный, например, ведет на телевидении юмористическую жовиальную программу, и желающие могут лицезреть полного министра, отплясывающего с красотками из варьете. Министр обороны участвует в конкурсе веселых и находчивых, а министр внутренних дел ведет конкурсы красоты – и так каламбурит, будьте любезны!
А президент? О, полковник любит посмеяться, и юмор его поизящнее будет, чем у мясистого предшественника. Тот, бывало, нальется водкой, побуреет и давай песни петь, вот и весь юмор, а новый хозяин улыбнется тонко и про жизнь пошутит. А уж как встретится он со своим коллегой, с премьером Британии или канцлером Германии, или, допустим, с американским президентом, ох они и шутят! А уж если состоится большая встреча лидеров стран, так и вообразить трудно, что за хохот стоит – ну просто клуб острословов! И приятно сознавать, что не только в России выбрали весельчака, но вот и американцы отыскали человека с чувством юмора, и француз рот разевает до ушей, а уж британский премьер хохочет во все сорок зубов. И глядя на их веселье, понимает зритель телевизионной программы: действительно наши менеджеры – это одна большая семья, и веселятся они ровно так же, как веселятся родственники, собравшись на семейный праздник. Съезжаются издалека и давай веселиться! Время-то какое веселое! И обнимают друг дружку за плечи, и подмигивают, и брызжут улыбками, и хихикают: ну как там, мол, твой народ? а твои-то там как? Да, нормально, живут еще, дергаются! Ну, вы там все, конечно, горой за свободу, ха-ха! Еще бы, куда же нам без нее! Ведь поставили меня за свободой присматривать! Ну, ты смотри, свободу не упусти! Не волнуйся, от меня не уйдет. Ох, уморил!
Новые западные лидеры, новые лейбористы, новые демократы и новые республиканцы начали шутить давно – еще в забытом шестьдесят восьмом, в Сорбонне, на студенческих баррикадах. Тот, позабытый теперь капустник сегодня кажется довольно наивным. Тогда, играя в жертв тоталитаризма, они в шутку предлагали считать себя немецкими евреями, это была остроумная для тех лет шутка. Унылые сорбоннские профессора, в которых кидали с баррикад тухлой капустой, не понимали юмора, не умели заглянуть в будущее и недоумевали: отчего же недоросль из состоятельной семьи объявил себя парией? А понять было просто: шутники тех лет хоронили отживший порядок, при котором подчиняться общественной морали – все равно что быть немецким евреем. Теперь они построили порядок новый, теперь хорошо известно, кто – они, и кто – немецкие евреи; и теперь они шутят по-другому. Они строить баррикады в Латинском квартале больше не будут; теперь сороказубый весельчак строит боевые порядки и формирует флотилии, а другой проказник вводит дивизии в разбомбленные города и кроит карту Востока. Однако замечательно то, что шутке это нисколько не вредит. А если кто-то и не смеется, так это он просто юмора не понимает – редко, но бывают такие сухари.
XII
Пример человека, глухого к юмору, являл Соломон Рихтер. Просматривая прессу, читая то одно сообщение, то другое, он – причем совершенно без улыбки – обращался к своему вечному собеседнику профессору Татарникову:
– И это называют демократией, Сергей? Где же тут демократия?
– А что, непохоже?
– Издеваетесь? Вот это – демократия?
– А с чего вы взяли, что строят демократию только? Где положено – да, внедряют демократию, ну, например, в Воронеже. А в других местах, какие получше, олигархию учреждают. А сверху этот пирог венчают монархией. Разве одной демократией обойдешься? Чтобы большую империю создать, надо несколько типов управления. Полибия помните? – и Сергей Ильич Татарников хохотал.
– Ах так, – свирепел Рихтер, – ну погодите!
– Вижу, вы прощать им не собираетесь, – умилялся Татарников.
– Я им покажу! – хрипел старый Рихтер, – я им задам! No pasaran! – и старик стучал палкой по полу.
Сергей Ильич Татарников глядел на своего старого друга, беспомощного и гневного, и смеялся беззубым ртом.
XIII
И не он один смеялся. Смеялись – или, в крайнем случае, улыбались – решительно все: прогрессивные художники, издатели глянцевых журналов, владельцы ресторанов и массажных кабинетов, продавцы презервативов и нефтепродуктов, и, конечно же, улыбались политики. И – что знаменательно – качество политической улыбки изменилось радикально! Если раньше, во времена холодной войны и великих иллюзий, улыбка политика часто бывала неискренней – как улыбка официанта, например, – то сегодня политики улыбались от души. Думаете, неискренне улыбается итальянский премьер – нечему порадоваться? Да нет же, совершенно от души улыбается. Есть в его жизни приятные моменты. И американский лидер улыбается искренне. А российский полковник? Его улыбка, полагаете, дежурная, не от сердца идет? Как бы не так! Просто время такое – веселое.
Появление улыбчивого субъекта нового образца, выращенного демократией на предмет управления собой, произошло одновременно во всех свободолюбивых христианских странах. И улыбка, следует отметить, не препятствовала делам: смех смехом, а работать надо. Британский премьер скалился во все свои сорок зубов, готовый ухватить за горло, американский президент с ухмылкой грозил с экранов телевизоров, а русский президент созвал однажды мамок и нянек и, растянув тонкие губы в улыбку, сказал так:
– Укреплять вертикаль власти! – сказал новый президент, лысеющий блондин, похожий на волка, – укреплять централизованную власть! Но одновременно и следить за развитием демократии! Вот задача сегодняшнего дня! Централизованная власть и развитая демократия одновременно! А кто не согласен – разорву! Что, Дупель, кажется, против? Смотри у меня, Дупель!
И недоуменно смотрел Дупель на человека, которого сам вчера президентом назначил – и не понимал: это что, шутка? А почему не смешно тогда? Как же так: он, Дупель, назначил его, никому не нужного офицеришку, президентом большой страны – и что же теперь? И поворачивался Дупель к мамкам и нянькам за сочувствием. Но мамки с няньками, изрядно присмиревшие за время правления нового президента, волка с холодными рыбьими глазами, восхищенно аплодировали новому курсу: до чего свежая мысль! Остроумно изволили сформулировать задачу: и власть централизованную насадить, и демократию развернуть! А что? Оригинально! И как своевременно! Нам, дуракам, и не додуматься! Мы-то все за свободу боролись – как бы стырить побольше. А вы разумно все расставили по местам: воровать, оно понятно, воруйте, но все-таки кое-что и назад кладите. И даже так: воровать-то воруйте, но уворованное кладите в мой карман, в государственный, в президентский то есть. Какой план отменный! Вот и выйдет, что поступаем мы согласно свободному волеизъявлению, но одновременно укрепляем вертикаль власти. Потому как – держава! Пусть цветут все цветы и закручиваются все гайки! Пусть будет совершенная свобода слова и самая строгая цензура! Пусть свободно скачут все кони – но по кругу! В пределах манежа!
И, наклоняясь доверительно к полковнику, мамки и няньки шептали: вы на Дупеля этого внимание-то обратите, вашество. Пора приструнить. Зарвался совсем парень. Вы зубками-то на него пощелкайте. Вы ножками-то на него потопайте. А то вы все шутить изволите, а он юмора не понимает. Вообще это поколение – Балабос, Дупель, Левкоев – неадекватно себя ведет. Вы взор свой благосклонный на других обратите: на малых сих, незаметных, но верных! Подрастают кадры: Фиксов, Зяблов, Слизкин! Без запросов мальчики, без фанаберии, служивые люди.
И, нахваливая президентское нововведение, мамки с няньками свободолюбиво расправляли плечи. Не то чтобы нас заставил кто хвалить его решения, храбрились мамки с няньками и подмигивали друг другу. Нас поди заставь! Ого-го, какие мы свободолюбивые! Мы, если захотим, нашего управляющего в момент снимем! Сами поставили – сами и уберем! Просто нам с ним удобнее. Просто это самое мудрое и ответственное решение, которое только и можно принять: нехай одной рукой будем давать свободы, а другой обратно забирать. Одной рукой станем хапать казенное добро, а другой возвращать в президентскую казну уворованное. Ничего, глядишь, что-нибудь к рукам да прилипнет. Привыкать нам, что ли?
Никто и не раскрыл рта сказать, что сочетание централизованной власти и развитой демократии есть не что иное, как современный вариант «демократического централизма», метода, каким регулировалась двадцать лет назад советская власть. Еще тогда люди, логически мыслящие, смеялись над этой бессмысленной формулой. Демократический централизм – надо же, какая чепуха, сапоги всмятку! Но прошло двадцать лет, и те же самые граждане проголосовали за централизованную демократию. Демократический централизм и централизованная демократия – двадцати лет хватило, чтобы забыть, как сочетаются эти понятия. Никто и не раскрыл рта сказать, что предложенная программа, т. е. одновременное укрепление централизованной власти и углубление демократических принципов, звучит несуразно. В социальном плане это бессмыслица, бред, contradictio in abjecto. Никто не сказал этого, во-первых, от привычного российского ужаса перед властью (а ну как кинется волк и загрызет), а во-вторых, оттого, что общественное сознание давным-давно привыкло к перформативным контрадикциям и не считает их за что-то особенное. Да, одно положение противоречит другому – и что с того?
В мире, где развитие экономики связано с устранением реального продукта и заменой его на символ; в мире, где финансовое могущество выражается в отсутствии денег и обороте долгов; в мире, где христианское искусство сделало все возможное для того, чтобы избавиться от конкретного образа и заменить его беспредметным знаком, – в таком мире любой противоречивый лозунг прозвучит убедительно. Собственно говоря, политика и не может, и не должна отличаться в логике своих деклараций от прочих институтов.







