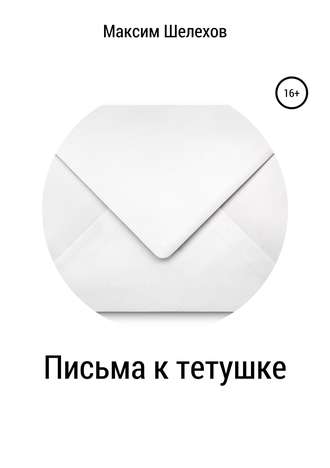
Максим Юрьевич Шелехов
Письма к тетушке
Введение
Жила у нас в захолустье до недавнего времени одна замечательная семья, состоящая, впрочем, из трех только человек: супружеской пары и их племянницы. Удивительное согласие царило в их доме. Муж с женой жили душа в душу, племянница им была вместо родной дочери. Они все вместе были также милы, как и странны, были будто не от мира сего. Были необыкновенно воспитанные, казались ужасно образованными, говорили всё таким языком, как из старинных давно уже позабытых у нас в захолустье книжек, давали в долг и с соседями своими никогда не ссорились, что, согласитесь, дело неслыханное. Казалось, не могло у них быть врагов, да и не было. Всё ведьма проклятая, наша, местная, старуха Лаврентьевна, из зависти или от скуки взяла и напустила на добрых людей порчу. Иначе нельзя было объяснить ту череду несчастий, что обрушились вдруг на эту семью. Череду, впрочем, никак нельзя было назвать и чередою, всего-то только два случилось события, закончившиеся, однако, оба как нельзя хуже. Скончался сперва глава семейства, от сердечного приступа, а через месяц примерно за ним последовала и верная его супруга – своею волей: приготовила себе петлю на шею, ужасно неумело, и, как показала экспертиза, померла далеко не сразу, а препорядочно намучившись. Самоубийцу, как полагается, схоронили отдельно, при погребении ее ни единой души не присутствовало.
С того времени прошло уже два года, дом покойников стоит совершенным сиротою, зарос и страшно запустился, в одном месте просела крыша. По сей день, как считалось, туда и мародеры не наведывались, боясь Лаврентьевны проклятья, которым, по всеобщему мнению, в том доме сами стены пропитаны. Но всему бывает почин.
Не далее, как на прошлой неделе, один мой близкий знакомый, страшный негодяй и безбожник, как водится, за бутылкой, похвастал мне, что «проклятый дом» не есть уже более вершиной им непокоренной, что он там намедни был. Я хоть и почитал его за большого авантюриста и в своем роде героя, счел нужным ему на слово не поверить и потребовал улик. Доказательства были представлены в ту же секунду в виде пачки писем, которые знакомый мой держал при себе и берег, как трофей. Адресатом писем действительно значилась самоубийца, но, что всего интересней, писаны они были ее племянницей, лицом, с недавних пор считай мистическим для обывателей нашего местечка.
И действительно, с того времени, как Варя (имя той самой племянницы) поступила в университет (а это где-то за полгода до вышеперечисленных смертей), ее в нашем городке, как говорится, и дух простыл. На похоронах она не присутствовала, в дом, как прямой наследницы, нога ее не заступала, и вообще о ней никто ничего не мог сообщить утвердительного, доходили одни только слухи, в основном бредовые и друг с другом не вяжущиеся совершенно. Например, говорили, что за столь короткий срок она успела сделать головокружительную карьеру и выбиться в какой-то там сфере каких-то продаж в большие начальники. Другие клялись, что видели ее не раз и не два в людных местах Города в нелепом облачении и среди группы сектантов, пляшущей под барабаны во имя и во славу толи Будды, толи Брахмы, толи какого-то черта. И наконец, бывший Варин одноклассник, тоже и в один с Варей университет поступивший, только на разные с ней специальности, мелкий, рыжий, востроносый и чрезвычайно подлый Васька Коваленко, битый за язык свой в году по многу раз, ручался, будто Варя, давно бросив университет, служит теперь на панели, будто есть у него даже и номерок, по которому, при случае и при желании можно ее вызвать, и что номерком тем он готов поделиться, разумеется, не бесплатно. Из всего перечисленного, как видно, общего было немного: то, что Варя жива, что по-прежнему живет в Городе, и что университет она таки оставила. Почему же она не приехала на похороны дяди, почему не была при погребении тети, известно ли ей вообще о кончине своих близких, или по сей день пребывает она в совершенном неведении, но, в таком случае, почему не наводит она никаких справок? – все это были вопросы открытые и неразрешенные. Естественно, добыча моего приятеля-мародера меня весьма заинтересовала.
Сторговались мы на трети моей зарплаты и ударили по рукам. Письма нашел я занимательными и много объясняющими, хоть и далеко в них все не однозначно. Теперь я намерен эти письма опубликовать. Если пропустит модерация, что ж, пожалуйста. Имею ли я моральное на то право? Никакого: письма частные и письма сугубо личные. Но, если отбросить всякую мораль:
06 сентября 20**
Четверг
Милая, добрая Елизавета Андреевна, прошла только одна неделя после нашего расставания, а мне кажется, что уж год минул. Как я соскучилась! Что там наш Покровск? Выбрали ли мэра? Кого, как и ожидалось, Никитина? Как Николай Антонович отреагировал? Как Николая Антоновича радикулит, в прежнем бодрствовании? Что его сердце, шалит? Высылаю вам вместе с письмом мазь, согревающую, и капли сердечные, слишком мне в одной из здешних аптек рекламированные, и прошу вас настоятельно, душенька, внушить вашему бесценному супругу лечиться.
О себе. Что здесь для меня нового, что поразительного? Всё! Наш город, получается, вовсе даже и не город совсем в сравнении с этим чудищем. Как здесь людно, шумно, суетливо! Всё куда-то бежит, жужжит, торопится. Машин здесь больше, чем людей, а людей больше, чем листьев на деревьях. Парки, правда, красивы, но вычурны, оттого красота их кажется искусственною. Люди здесь равнодушно-приветливы и принужденно-любезны, по-настоящему же здесь ни до кого кроме самого себя нет дела никакого. Это что касается аборигенов. Всё, что приезжее, как я, из глубинок, всё то склонно к подражанию, оттого ведет себя карикатурно. Мои соседки по комнате из последних. Ладится у меня с ними неважно, впрочем, обходится пока без сцен. Но вы же знаете, тетушка, я и всегда непросто сходилась с девочками. Зато у меня, кажется, появился друг. Мы учимся на одном факультете, зовут его Костя. Он мне немножко нравится, скажу вам на ушко и по секрету. Смотрите, душенька, не проболтайтесь Николаю Антоновичу, а то он, знаю я, по своей всегдашней мнительности, выдумает себе невесть что. О Косте и о моей дружбе с ним, может быть (или наверно, хочется, чтобы наверно), распространюсь в следующем письме, а пока скажу только в двух словах, что он, из всех, с кем я здесь знакома и виделась, кажется мне самым интересным и к нему нельзя подобрать шаблон, ни подвести меру, по крайней мере, я пока это сделать не умею, хоть и располагаю к тому, как вы знаете, маниакальной (скажите, какое словцо!) наклонностью.
Кроме прочего. Учусь я охотно, преподаватели интересны, предметы нравятся. Пожалуй, всё на том. Желаю вам, тетушка, крепкого здоровья, как и, безусловно нуждающемуся, Николаю Антоновичу, адресую ему низкий поклон. Напишу о себе еще в самом ближайшем будущем, только позволю этому письму дойти до вас.
Ваша Варя.
P.S. Старалась писать как можно бодрее и энергичнее и, кажется, со своей задачей справилась. Но вот сейчас, переписывая набело, не могу удержаться от приписки. Как мне грустно порою, как тоскливо!.. Мучает меня мысль: может, мы вместе ошиблись, тетушка, в выборе моей будущности, может, мне стоило, душенька, поступив в покровское училище, остаться дома неразлучною с вами? Мне здесь все чуждо…
P.P.S. Простите, ангел! Простите, мне ужасно стыдно за мою приписочку! Убедительно прошу, не озадачивайтесь на мой счет, не обращайте, милая, внимания на этот наплыв меланхолии, который, уверяю вас, более чем случаен. В целом же и в общем, у меня все нормально. Скучаю только по вам.
14 сентября
Пятница
Не знаю, тетушка, сдержала ли я свое обещание, позволила ли предыдущему письму успеть найти своего адресата? Во всяком случае, ответа я пока от вас не получала, да и не могла получить, по срокам. Сама же не утерпела вырвать двойной лист с середины тетрадки, оттого, что, скучаю безмерно и, хотя посредством письма, намереваюсь сблизиться мысленно, найти в вас, сердечная, по обыкновению, первую свою собеседницу и единственного конфидента.
Я, ангел-тетушка, этим разом собиралась с вами пошептаться о Косте (продолжаю просить вас какое-то время имя это держать в отдалении от ушей и глаз впечатлительного Николая Антоновича), для вас же одной тема остается открытой и актуальной – дружба наша все крепнет и… (боже, неужели я отважусь самой себе признаться в этом?) – обещает перерасти во что-то большее.
Елизавета Андреевна, моя добрая, вам, наверное, не терпится узнать, как мы с Костей познакомились? Все было очень необычно и, на мой вкус, замечательно, вот тем и замечательно, что необычно. Я вам опишу подробно.
Вы знаете, милая, что я терпеть не могу завтракать спозаранку и привыкла пить кофе не раньше чем в половине одиннадцатого. Николай Антонович еще вечно шутит на этот счет, будто я аристократка. Здесь со мною всё то же, и на протяжении первых двух пар я только нагуливаю аппетит. Потом – как раз наступает время продолжительной перемены – я спускаюсь… ни в коем случае не в буфет, дабы не превратиться в беляш на ножках, а в фойе на первый этаж, к кондитерской лавке, где заказываю себе кофе и кекс. Вероятно, охотников пропахнуть жаренным у нас здесь не в преимуществе: буфет на переменках почти пуст, а все диваны и кресла в фойе постоянно заняты, остается искать пристанище толи у подоконников, толи на лестничных пролетах, там есть на каждом по два удобных выступа, один напротив другого, куда можно присаживаться. К подоконникам в понедельник, в мой первый учебный день, было не протолкнуться, оттого мне ничего не оставалось, как взбираться по ступенькам со своим завтраком. Уже на первом пролете один из выступов оказался свободным, на котором я благополучно устроилась; на другом выступе, напротив, сидел мальчик, с тетрадкой на коленях, что-то себе усердно и озабоченно туда записывал, с нешуточным вдохновением, явно не по предмету. «Что он там себе пишет, этот мальчик?» – подумала я, и так даже неприлично засмотрелась перед собой, за которым занятием вскоре была поймана. Однако чувство смущения во мне даже не успело произойти, до того удивительной мне показалась реакция мальчика. Он в свою очередь посмотрел на меня с таким лицом, будто я была его давняя и короткая знакомая, которую он никак не ожидал увидеть перед собой, как будто воскресшая из мертвых – без преувеличения. Я все ожидала, когда он опомнится или обознается и соорудила бровями вопрос. Тогда он, точно из какого транса электрическим разрядом выведенный, содрогнулся весь, заерзал на месте, забегал глазами, правда то и дело останавливая свой потерянный взгляд на мне, будто я таки была привидение перед ним, вот-вот должное испариться. Мне стало не по себе и я, с недоумением пожав плечами, ушла. Затем, уже после учебы, выходя из университета, я опять видела этого странного мальчика, он, не таясь, наблюдал за мной со стороны и, казалось, за тем только и стоял, чтобы проводить меня взглядом. «Точь-в-точь Германн из Пиковой дамы», – заключила я, дав на весь оставшийся день вплоть до самого сна разгул и волю своей фантазии. Не мудрено, что он и приснился мне, этот мальчик…
Я перенеслась в пушкинскую эпоху в своих грезах, в компанию к самому Пушкину. Это был тот самый роковой бал, на котором ужасный Дантес в очередной раз и сверх меры скомпрометировал г-жу Пушкину, что послужило поводом к написанию известного письма к «старой сводне» к Геккерну-отцу и привело к трагической дуэли. Я… я была хорошенькая, тетушка, на мне было прекрасное платье, которое, я и сама чувствовала, сидело на мне хорошо. Но головокружительное чувство довольства собой не мешало мне замечать не только взгляды, останавливающиеся на мне, но и внимание мужчин сосредоточенное на других особах женского пола. Должно признать, конкуренцию сложно было выдерживать в присутствии Гончаровой. Я не могла не восхищаться ее красотой, как не могла не быть свидетельницей чудовищных намеков и кощунственных взглядов, настойчиво адресующихся ей вульгарным Дантесом. Потому как это был сон и мой сон, неудивительно, что я могла догадываться и даже знать наперед, во что выльется эта церемония бесчестия. С болью в груди я рассуждала, найдется ли хотя один человек из всей этой высокопоставленной черни, имеющий сердце, способный предотвратить катастрофу. Вдруг, будто откликаясь на мою мысль, в самый разгар кривляний Геккерна младшего, из прочих выделился молодой человек благородной наружности, предположительно друг Пушкина (по нечеткому сценарию моего сна), в лице же того странного мальчика (из моей яви). Он обратил на себя внимание следующей неожиданной и невозможной речью.
–Господин Геккерн! – строго и во всеуслышание произнес он. – Вы ведете себя, как назойливая муха, достойным и прекрасным людям отравляя жизнь своим присутствием; считаю своей обязанностью и даже долгом выжить вас с белого света, во всяком случае, еще и потому, что порядочному человеку, которым я надеюсь прослыть в будущем, – в этот момент многозначительный взгляд на меня; и снова Дантесу, – в одном миру с вами ужиться не представляется возможным.
Как на ваш взгляд, милая тетушка, допустило бы то, прежнее, пушкинское общество, такое обстоятельство, позволило бы совершиться такой дуэли, или же защитника чести Пушкина (этого странного мальчика) единогласно признало умалишенным и, следственно, речь его тою, которой нельзя оскорбиться? Это бы вынудило Пушкина таки сесть за свое письмо, и нашего славного поэта мы одинаково потеряли бы.
О том я думала следующим утром, проснувшись. И еще я думала, что странный мальчик, несмотря на подобранное мной накануне сравнение, таки приснился мне не в лице корыстолюбивого и демонического Германна, а в лице благородного молодого человека, защитника чести Пушкина. Я думала, каков он есть на самом деле, герой моего сновидения?
Неловко признаться, тетушка, но, идя на учебу, я всерьез рассчитывала, что этот мальчик, как и провожал, также будет встречать меня на крыльце своим взглядом; с немалым разочарованием я вынуждена была свидетельствовать обратное. Потом, всю первую пару я жестоко критиковала себя за фантастичность свою. «С чего ты взяла, – обращалась я по обыкновению к самой себе в третьем лице, – с чего ты выдумала, что ему занятия больше нет никакого, кроме как встречать тебя? С чего ты выдумала, что ему вообще больно надо это? Может, он и не ради тебя, а просто так вчера стоял у крыльца, может, он и не тебя ожидал вовсе, а ты ему просто так в глаза бросилась? И уверена ли ты, что его взгляд адресовался точно тебе, не придумала ли ты себе того, дорогая? А там, на лестничной площадке! Еще бы не смутиться человеку, когда его так рассматривают. Смотрел, вероятно, на тебя и думал, что ей надобно? Какой стыд!» – и я краснела до ушей от этих мыслей, прям на паре; что нам рассказывал Матвей Игнатьевич, наш историк, не слышала и приблизительно. Тот заметил отсутствие моего внимания, предложил мне повторить последние его слова. Я смешалась, все вокруг заулыбались. Тогда Матвей Игнатьевич говорит: «Варвара Андреевна, не влюбились ли вы?» Меня это замечание аж взбесило. «Да что он о себе возомнил, этот мальчик, чтобы я, раз увидев, сутки напролет о нем думала!» – Как видите, душенька, я совсем дошла до крайности в своем возмущении: произвела ни в чем не повинного человека в главного виновника своей рассеянности. Как бы то ни было, я ощущала себя, и не без основания, в весьма глупом положении; положила вообще не думать ни о чем, кроме учебы, «по крайней мере, ближайшие пять лет», и конец первой пары, как и всю следующую, была строга в своем намерении.
На большой перемене, когда я спускалась в фойе, то заметила, что он сидит опять на прежнем своем месте, этот мальчик. Я уже хотела было развернуться и спуститься другой стороной, но он меня заметил. И опять что-то было в его взгляде, я не могла ошибаться, что-то особенное. Я прошла мимо с равнодушным лицом, внутри же была преисполнена каким-то непонятным и непривычным чувством приятного раздражения (по-другому выразиться не умею): мне было отчего-то довольно и радостно, оттого, что я не ошибалась, наверно, и в то же время мне хотелось расплакаться от досады, – что ему до меня, почему он так смотрит и почему не заговорит?
Я купила кекс и кофе. Возле подоконников были свободные места, но я пошла и села на вчерашнее свое место, как будто назло самой себе, как будто нарочно, чтобы замучиться. Он по-прежнему не спускал с меня глаз, я чувствовала это всем своим существом, но головы так и не решилась поднять; доела кекс, допила кофе и чуть не убежала.
Выходила из университета – его не было, шла утром опять на занятия – меня взглядом никто не встречал. Я всерьез переживала, Лизавета Андреевна, что вот если сейчас, на большой перемене, я буду спускаться и на лестничной площадке никого не окажется, то я, может быть, сдурею (простите опять за выражение, моя добрая, но лучше нельзя, кажется, в моем случае сказать), меня и без того уже почти лихорадило.
Вторая пара кончилась. Я сходила с лестницы точно в бреду, нащупывая взглядом каждую ступеньку. Вот уже и пролет между вторым этажом и первым, два выступа: на одном кофе и кекс, на другом тот самый мальчик. О том, чтобы пройти с равнодушным лицом, как днем ранее, ни мысли, ни возможности у меня не было. Я остановилась, как вкопанная, уставилась на мальчика, как дурачка (и вновь простите, тетушка), взглядом, полным благодарности. Он, в свою очередь, умничка, ничего не состроил из себя; никакого вида надменного, взгляда такого, от которого у меня впоследствии могло самолюбие взыграть, не сделал, смотрел тепло и приветливо. Мы так целую минуту, наверное, друг дружке проулыбались. Затем он еще раз обратил мое внимание на выступ напротив, спросил, ничего ли он не перепутал. Я только сейчас сообразила, что это же кекс и кофе для меня, чем я в предыдущие дни завтракала. Вдвойне стало отраднее. Потом мы разговаривали об отвлеченных предметах – как будто сто лет знакомы, было у меня такое впечатление, никакой не ощущала я неловкости; решили не изменять традиции, договорились и на следующий день вместе позавтракать.
Так-то, тетушка, вот такое у меня получилось с Костей знакомство, вот такое у меня вышло предлинное письмо. Глубокая ночь на дворе, глаза слипаются. Люблю вас!
Варя.
24 сентября
Понедельник
Душа моя Елизавета Андреевна, что я вам расскажу! Я представляла вам знакомство наше с Костей, как замечательное, оказалось, что оно было замечательнее замечательного, оно было чудесным! Я об этом узнала только сегодня. Помните мое наблюдение, в предыдущем письме, что мальчик (Костя) писал себе что-то в тетрадь, с необыкновенным увлечением, я еще выразила догадку, что не по предмету. Так вот, мой друг пишет роман, он признался в этом. Сюжет пока мне хорошенько не известен, но я знаю, что освещение событий происходит от первого лица, это что-то вроде дневника, в котором главный герой повествует о самом себе, о своих переживаниях, и так из дня в день. Роман, я так понимаю, должен быть психологический, потому что что-то вскользь было упомянуто и о сумасшедшем доме. Главный герой, следовательно, должен быть с расстроенными нервами, но все это предположения, досконально известно только то, что главный герой влюблен, влюблен без памяти и без оглядки, ровно так, как должен быть влюблен сумасшедший. В чем чудесное, спросите вы, и для чего я вам пересказываю все это? Чудесное в том, что предметом любви героя Костиного романа являюсь я! Да, я, и даже не в переносном смысле! (И это не моя выдумка Елизавета Андреевна.) Вот почему автор, Костя, так смотрел на меня, когда впервые увидел, точно как на привидение, потому что я перед ним была, будто из страниц его романа вышедшей. Он говорит, что не мог поверить ни глазам, ни рассудку, думал, что у него, как у его героя, приключилась галлюцинация. Я была свидетельницей его реакции, тетушка, и вполне его словам верю. Вдумайтесь только. Молодой человек задумал роман. У молодого человека есть сюжет, он рисует себе образы, живет ими и с ними почти неразлучно во все часы бодрствования своего, и вдруг один из этих образов, «самый драгоценный» (эта Костина фраза, брошенная им невзначай, признаюсь, душенька, мне особенно польстила) – вдруг этот образ предстает перед глазами во всем своем естестве. Костя утверждает, я почти во всем идентична: мимика, взгляд, жесты, будто он сам придумывал мои характерные черты. Когда он так говорит, тетушка, надо видеть его, он честен. Чем более он узнает меня, тем более убеждается, что уже знает меня, он шутит, что я не так как все на свет произошла, что это он меня выдумал. Милая, можете представить, что я должна при всем при этом чувствовать? Все это очень странно и симпатично. Я польщена, не скрою, но вместе с тем, тетушка, я не могу избавиться от ощущения, что я, против чаяния, выступаю обманщицей перед Костей. Я каждую минуту опасаюсь, что вот-вот его разочарую, чувствую себя, по меньшей мере, принужденно, все думаю, какой мне следует быть, чтобы соответствовать его «фантазии». Тяжело исполнять роль, хотя бы даже и свою собственную. И еще я как будто ревную, ревную к самой себе и не хочу, чтобы меня с кем-то ассоциировали, пусть даже с такою же, как и я, мной. Все это так странно на листе выглядит, что похоже на бред, не правда ли?..
Я намерена рассказать Косте что-то о себе, что-то личное, то, что он обо мне не мог и не смог бы «выдумать». Я не знаю, для чего мне это необходимо и как это мне должно помочь, но саму необходимость в том я чувствую. И еще я чувствую симпатию и доверенность… И мне волнительно, и я предполагаю, что способна путаться. Думаю, что лучше будет, если я напишу свою историю на листе и передам ее Косте уже в готовом виде… Думаю, что лучше будет, если я сейчас напишу, пока полна решимости. Список отправлю и вам, моя добрая, в приложении, а вы мне после перескажите, была ли я во всем честна и объективна.
С тем вместе остаюсь преданной и любящей, неисправимо фантастичной вашей воспитанницей,
Варей.
Несколько строк о себе и об одном чувстве.
Происхождение мое смутно. Об отце своем я не имею представления, как и он, наверное, обо мне. О матери моей, как о своей несчастной сестре, тетушка (с четырех лет я живу с дядей и тетей) мне тетушка рассказывает немного и выборочно, об остальном я умею догадываться… не без сожаления. Тем не менее, эта женщина меня родила, и я должна быть ей благодарной, хотя бы больше было не за что.
Из того, что мне известно: например, колыбельной мне когда-то служила yesterday, композиция группы Beatles, любимая песня моей матери; она мне ее напевала перед сном. И я помню это, хотя тетушка сомневается в действительности моего воспоминания, ведь тогда, по ее словам, мне было что-то около двух лет. Скорее всего, предполагает она, это воспоминание рисует мне мое воображение, основанием чему служит ее, тетушкин, рассказ об этом. Может быть, так оно и есть. Но я помню еще раньше. Я помню себя в колыбельной. Я знаю одно тогдашнее чувство, которое каким-то непостижимым отголоском запечатлелось в моей памяти. Это же чувство, только уже не рассеянное, а как бы очерченное и осененное самою ясностью о нем, я испытала еще однажды, в четырехлетнем возрасте, оттуда же исходит и последнее мое воспоминание о моей матери.






