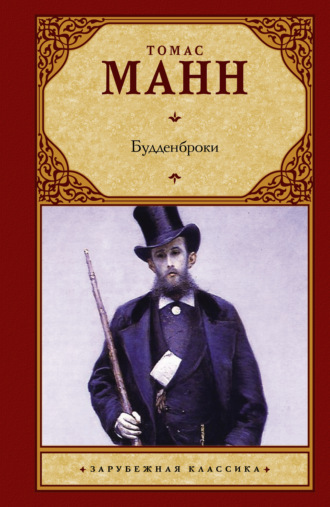
Томас Манн
Будденброки
– Мы хотим свободы, – отвечал Мортен.
– Свободы? – переспросила Тони.
– Да, свободы! Поймите – свободы! – повторил он и сделал несколько неопределенный и неловкий, но восторженно-воодушевленный жест – простер руку, потом опустил ее, указывая на море, но не туда, где бухту ограничивала Мекленбургская коса, а дальше, где начиналось открытое море, все в зеленых, синих, желтых, серых полосах, чем дальше, тем больше суживающихся, волнующееся, великолепное, необозримое и где-то, бесконечно далеко, сливающееся с блеклым горизонтом.
Тони взглянула в направлении, на которое указывал Мортен, и в то время как их руки, лежавшие рядом на грубо отесанной деревянной скамье, уже почти соприкоснулись, взгляды их дружно обратились вдаль. Они долго молчали. Море спокойно и мерно рокотало где-то там внизу, и Тони вдруг показалось, что она и Мортен слились воедино в понимании великого, неопределенного, полного упований и страсти слова «свобода».
Глава девятая
– Как странно, Мортен, у моря невозможно соскучиться. Попробуйте-ка полежать часа три или четыре на спине где-нибудь, ничего не делая, без единой мысли в голове…
– Верно, верно… Хотя, знаете, фрейлейн Тони, раньше я все-таки иногда скучал. Но это было с месяц назад…
Пришла осень, впервые подул резкий ветер. По небу торопливо неслись разорванные серые, жиденькие облака… Море, угрюмое, взлохмаченное, было, сколько глаз хватает, покрыто пеной. Высокие грузные валы с неумолимым и устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод, и с грохотом обрушивались на песок.
Сезон кончился. Та часть берега, на которой обычно толпились приезжие, теперь казалась почти вымершей, многие павильоны были уже разобраны, и только кое-где еще стояли плетеные кабинки. Тем не менее Тони и Мортен предпочитали уходить подальше, к желтым глинистым откосам, где волны, ударяясь о «Камень чаек», высоко взметали свою пену. Мортен сгреб в кучу песок и накрепко утрамбовал его за спиной у Тони; она сидела на этом песчаном кресле, скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой, одетая в жакетку из мягкой серой материи, с большими пуговицами; Мортен лежал на боку, обернувшись к ней лицом и подперев рукой подбородок. Над морем время от времени проносилась с хищным криком чайка. Они смотрели на валы, словно поросшие водорослями, которые грозно приближались, чтобы разбиться в прах о торчащую из моря скалу с тем извечным неукротимым шумом, который оглушает человека, лишает его дара речи, убивает в нем чувство времени.
Наконец Мортен зашевелился и, словно заставив себя проснуться, спросил:
– Теперь вы, наверное, уже скоро уедете, фрейлейн Тони?
– Нет… Почему вы думаете? – рассеянно, почти бессознательно отвечала она.
– О Господи! Да ведь сегодня уже десятое сентября… Мои каникулы скоро кончаются… Сколько же это еще может продолжаться? Вы, верно, уже радуетесь началу сезона? Ведь вы любите танцевать с галантными кавалерами, правда? Ах, Бог мой, я совсем не то хотел спросить. Ответьте мне на другой вопрос. – Набираясь храбрости, он стал усиленно тереть подбородок. – Я уже давно откладываю… вы знаете что? Так вот! Кто такой господин Грюнлих?
Тони вздрогнула, в упор взглянула на Мортена, и в ее глазах появилось отсутствующее выражение, как у человека, которому вдруг вспомнился какой-то давний сон. Но так же мгновенно в ней ожило чувство, испытанное ею после сватовства г-на Грюнлиха, – сознание собственной значительности.
– Так вы это хотели узнать, Мортен? – серьезно спросила она. – Что ж, я вам отвечу. Поверьте, мне было очень неприятно, что Томас упомянул его имя при первом же нашем знакомстве. Но раз вы его уже слышали… Словом, господин Грюнлих, Бендикс Грюнлих, – это клиент моего отца, зажиточный коммерсант из Гамбурга. Он… просил моей руки… Да нет! – торопливо воскликнула она, как бы в ответ на движение Мортена. – Я ему отказала. Я не могла решиться навеки связать с ним свою жизнь.
– А почему, собственно, если мне будет позволено задать такой вопрос? – Мортен смешался.
– Почему? О Господи, да потому, что я его терпеть не могу, – воскликнула она, почти негодуя. – Вы бы посмотрели, каков он на вид и как он вел себя! Кроме того, у него золотисто-желтые бакенбарды… Это же противоестественно! Я уверена, что он присыпает их порошком, которым золотят орехи на елку… К тому же он втируша… Он так подъезжал к моим родителям, так бесстыдно подпевал каждому их слову…
– Ну, а что значит… – перебил ее Мортен, – на это вы мне тоже должны ответить: что значит «они чрезвычайно украшают»?
Тони как-то нервно засмеялась.
– У него такая манера говорить, Мортен! Он никогда не скажет: «как это красиво», или: «как это приятно выглядит», а непременно: «чрезвычайно украшает»… Он просто смешон, уверяю вас! Кроме того, он нестерпимо назойлив. Он не отступался от меня, хотя я относилась к нему с нескрываемой иронией. Однажды он устроил мне сцену, причем чуть не плакал… Нет, вы только подумайте: мужчина – и плачет!..
– Он, верно, очень любит вас, – тихо сказал Мортен.
– Но мне-то до этого какое дело? – словно удивляясь, воскликнула Тони и круто повернулась на своем песчаном кресле.
– Вы жестоки, фрейлейн Тони! Вы всегда так жестоки? Скажите, вот вы терпеть не можете этого господина Грюнлиха, – но к кому-нибудь другому вы когда-нибудь относились с симпатией? Иногда я думаю: да, да, у нее холодное сердце. И вот еще что я должен вам сказать, и я могу поклясться, что это так: совсем не смешон тот мужчина, который плачет оттого, что вы его знать не хотите, уверяю вас. Я не поручусь, отнюдь не поручусь, что и я тоже… Вы избалованное, изнеженное существо! Неужели вы всегда насмехаетесь над людьми, которые лежат у ваших ног? Неужели у вас и вправду холодное сердце?
Веселое выражение сбежало с лица Тони, ее верхняя губка задрожала. Она подняла на него глаза, большие, грустные, наполнившиеся слезами, и прошептала:
– Нет, Мортен, не надо так думать обо мне… Не надо!
– Да я и не думаю! – крикнул Мортен со смехом, взволнованным и в то же время ликующим. Перекатившись со спины на живот, он стремительно приблизился к ней, уперся локтями в песок, схватил обеими руками ее руку и стал восторженно и благоговейно смотреть ей в лицо своими серо-голубыми добрыми глазами. – И вы, вы не будете насмехаться надо мной, если я скажу, что…
– Я знаю, Мортен. – Она тихонько перебила его, не сводя глаз со своей руки, медленно пересыпавшей сквозь пальцы тонкий, почти белый песок.
– Вы знаете!.. И вы… фрейлейн Тони…
– Да, Мортен. Я верю в вас. И вы мне очень по душе. Больше, чем кто-либо из всех, кого я знаю.
Он вздрогнул, взмахнул руками – раз, второй, не зная, что ему сделать. Потом вскочил на ноги, снова бросился на песок подле Тони, крикнул голосом сдавленным, дрожащим, внезапно сорвавшимся и вновь зазвеневшим от счастья:
– Ах! Благодарю, благодарю вас! Поймите, я счастлив, как никогда в жизни! – И начал покрывать поцелуями ее руки.
Потом он сказал совсем тихо:
– Скоро вы уедете в город, Тони. А через две недели кончатся мои каникулы, и я вернусь в Геттинген. Но обещайте, что вы будете помнить этот день здесь, на взморье, пока я не вернусь уже доктором и не обращусь к вашему отцу насчет, насчет… нас обоих. Хотя это и будет мне очень трудно. А тем временем вы не станете слушать никаких Грюнлихов. Да? О, это все будет недолго, вот посмотрите! Я буду работать как… и… Ах, да это совсем нетрудно!
– Да, Мортен, да, – проговорила она блаженно и рассеянно, не отрывая взора от его глаз, губ и рук, держащих ее руки.
Он притянул ее руку еще ближе к своей груди и спросил глухим, умоляющим голосом:
– После того, что вы сказали… можно, можно мне… закрепить…
Она не отвечала, она даже не взглянула на него, только слегка подвинулась в его сторону на своем песчаном кресле. Мортен поцеловал ее в губы долгим, торжественным поцелуем. И оба они, застыдившись свыше меры, стали смотреть в разные стороны.
Глава десятая
«Дражайшая мадемуазель Будденброк!
Сколько уж времени прошло с тех пор, как нижеподписавшийся не видел вашего прелестного лица? Пусть же эти немногие строчки засвидетельствуют, что сие лицо неотступно стояло перед его духовным оком и что все эти долгие и тоскливые недели он неизменно вспоминал о драгоценных минутах в гостиной вашего родительского дома, где с ваших уст сорвалось обещание, еще не окончательное, робкое, но все же сулящее блаженство. Уже много времени прошло с тех пор, как вы удалились от мира, имея целью собраться с мыслями, сосредоточиться, почему я и смею надеяться, что срок искуса уже миновал. Итак, дражайшая мадемуазель, нижеподписавшийся позволяет себе почтительно приложить к письму колечко – залог его неувядаемой нежности. Со всенижайшим приветом, покрывая самыми горячими поцелуями ваши ручки, я остаюсь
вашего высокоблагородия покорнейшим слугой
Грюнлихом».
«Дорогой папа!
Бог ты мой, как я рассердилась! Прилагаемое письмо и кольцо я только что получила от Гр., от волнения у меня даже голова разболелась, и единственное, что я могла придумать, – это немедленно отослать тебе и то и другое. Грюнлих никак не хочет меня понять; того, что он так поэтично называет моим «обещанием», просто никогда не было; и я прошу тебя немедленно растолковать ему, что я теперь еще в тысячу раз меньше, нежели полтора месяца назад, могу помыслить о том, чтобы навеки связать себя с ним, и пусть он наконец оставит меня в покое, ведь он себя же выставляет в смешном свете. Тебе, добрейшему из отцов, я могу признаться, что я дала слово другому человеку, который любит меня и которого я люблю так, что словами и не скажешь! О, папа! О своей любви я могла бы исписать целый ворох листов! Я имею в виду г-на Мортена Шварцкопфа, который учится на врача и, как только получит докторскую степень, явится к тебе просить моей руки. Я знаю, что полагается выходить замуж за коммерсанта, но Мортен принадлежит к другому, очень уважаемому разряду людей, – к ученым. Он не богат, а я знаю, какое вы с мамой придаете значение деньгам, но на это, милый папа, как я ни молода, а скажу тебе: жизнь многих научала, что не в богатстве счастье. Тысячу раз целую тебя и остаюсь
твоей покорной дочерью Антонией.
P.S. Я сейчас разглядела, что кольцо из низкопробного золота и очень тонкое».
«Моя дорогая Тони!
Письмо твое я получил. В ответ на него сообщаю, что я почел своим долгом, разумеется, в подобающей форме, поставить г-на Грюнлиха в известность относительно твоей точки зрения, и результат поистине потряс меня. Ты взрослая девушка, и сейчас в твоей жизни настала пора, до такой степени серьезная, что я считаю себя вправе напомнить тебе о последствиях, которые может возыметь для тебя необдуманный шаг. От моих слов г-н Грюнлих впал в беспредельное отчаяние и объявил, что если ты будешь упорствовать в своем решении, то он лишит себя жизни, так велика его любовь к тебе. Поскольку я не могу принять всерьез того, что ты пишешь относительно твоей склонности к другому, то прошу тебя умерить свое негодование по поводу присланного тебе кольца и еще раз как следует все взвесить. Мои христианские убеждения, дорогая моя дочь, подсказывают мне, что каждый человек должен уважать чувства другого. И кто знает, не придется ли тебе в свое время держать ответ перед Всевышним судией за то, что человек, чьи чувства ты так жестоко и упорно отвергала, совершил великий грех самоубийства. Еще раз напоминаю тебе о том, что я уже не раз тебе говорил, и радуюсь возможности закрепить сказанное мною в письменной форме, ибо если изустная речь и воздействует на собеседника живее и непосредственнее, то начертанное слово имеет другие преимущества: его выбираешь не спеша, не спеша наносишь на бумагу, и вот, запечатленное в той самой форме, в том самом месте, которое выбрал пишущий, оно обретает прочность, может быть не раз перечитано адресатом и потому в состоянии оказывать на последнего длительное, прочное воздействие. Мы, дорогая моя дочь, рождены не для того, что, по близорукости своей, склонны считать нашим маленьким, личным счастьем, ибо мы не свободные, не независимые, вразброд живущие существа, но звенья единой цепи, немыслимые без долгой чреды тех, что предшествовали нам, указуя нам путь, – тех, что, в свою очередь, не оглядываясь по сторонам, следовали испытанной и достойной преемственности. Твой путь, думается мне, уже в течение добрых двух месяцев четко обозначен и ясно предопределен, и ты не была бы моей дочерью, не была бы внучкой твоего блаженной памяти деда и вообще достойным членом нашей семьи, если бы вздумала упорствовать в легкомысленном желании идти своим собственным, непроторенным путем. Все это, дорогая моя Антония, я и прошу тебя взвесить в сердце твоем.
Твоя мать, Томас, Христиан, Клара и Клотильда (она довольно долго прогостила у отца в «Неблагодатном»), а также мамзель Юнгман шлют тебе наисердечнейший поклон. Все мы с радостью готовимся вновь заключить тебя в свои объятия.
Горячо любящий тебя отец».
Глава одиннадцатая
Дождь лил без передышки. Земля, вода и небо точно смешались воедино.
Ветер налетал, злобно подхватывал косые струи дождя и бил ими об окна домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи. Жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах. Когда вскоре после обеда Мортен Шварцкопф с трубкой в зубах вышел на веранду посмотреть, что делается на небе, перед ним неожиданно вырос господин в длиннополом клетчатом ульстере[40] и серой шляпе. Возле дома стояла наемная коляска с блестящим от дождя поднятым верхом и сплошь облепленными грязью колесами. Мортен в изумлении уставился на розовое лицо незнакомца. Бакенбарды этого господина выглядели так, словно их присыпали порошком, которым золотят орехи для елки.
Господин в ульстере взглянул на Мортена, как смотрят разве что на слугу, то есть скользнул по нему невидящим взором, и бархатным голосом спросил:
– Могу я видеть господина старшего лоцмана?
– Ну конечно, – пробормотал Мортен. – Отец, если не ошибаюсь…
При этих словах господин в ульстере пристально взглянул на него мутно-голубыми, как у гуся, глазами.
– Вы господин Мортен Шварцкопф? – осведомился он.
– Да, я, – отвечал Мортен, силясь придать своему лицу выражение спокойствия и уверенности.
– Ах, так. В самом деле… – начал было приезжий, но перебил себя: – Будьте любезны доложить обо мне вашему отцу, молодой человек! Моя фамилия Грюнлих.
Мортен провел г-на Грюнлиха через веранду в коридор, отворил перед ним дверь справа, которая вела в контору старшего лоцмана, и направился в гостиную доложить отцу о посетителе. Г-н Шварцкопф вышел, Мортен же сел возле круглого стола, уперся в него локтями и, не обращая ни малейшего внимания на мать, штопавшую чулки у помутненного окна, видимо, углубился в «жалкий листок», сообщавший разве что о серебряной свадьбе консула имярек. Тони отдыхала наверху в своей комнате.
Старший лоцман вошел в контору с выражением человека, который очень доволен только что съеденным обедом. Форменный сюртук его был расстегнут, так что виднелся белый жилет, плотно обтягивавший его основательное брюшко. Морская бородка топорщилась вокруг его красного лица. Он проводил языком по зубам, отчего его рот принимал самые причудливые очертания. Поклонился он быстро, рывком, словно говоря: вот, смотрите, как надо кланяться.
– Честь имею, – произнес он. – Чем могу служить?
Господин Грюнлих, в свою очередь, отвесил чинный поклон, причем углы его рта слегка опустились. Потом негромко произнес:
– Хэ-эм!
«Конторой» называлась небольшая комната с побеленными вверху, а внизу обшитыми деревом стенами. Окно, о которое неумолчно барабанил дождь, было завешано насквозь прокуренными гардинами. Справа от двери стоял длинный некрашеный стол, сплошь заваленный бумагами, на стене над ним была приколота большая карта Европы и поменьше – Балтийского моря. Посредине комнаты с потолка свешивалась тщательно сделанная модель судна с поднятыми парусами.
Старший лоцман указал гостю на диван напротив двери, обитый обтрепанной и растрескавшейся черной клеенкой. Сам он удобно уселся в деревянное кресло, тогда как г-н Грюнлих, в наглухо застегнутом ульстере, со шляпой на коленях, присел на самый краешек дивана.
– Повторяю, – сказал он, – моя фамилия Грюнлих, Грюнлих из Гамбурга. Чтобы вам было понятнее, добавлю, что я являюсь постоянным и давнишним клиентом оптового торговца консула Будденброка.
– А ля бонер! Весьма польщен! Не угодно ли вам расположиться поудобнее? Может быть, стаканчик грогу с дороги? Я сейчас прикажу.
– Позволю себе заметить, – спокойно проговорил г-н Грюнлих, – что у меня каждая минута на счету. Мой экипаж ждет, и потому я вынужден просить вас о наикратчайшей беседе.
– К вашим услугам, – повторил г-н Шварцкопф, несколько озадаченный.
Наступила пауза.
– Господин старший лоцман! – начал г-н Грюнлих, решительно мотнув головой и затем горделиво ее вскинув. Он помолчал, видимо, для того, чтобы сделать свое обращение более выразительным, и при этом так сжал губы, что его рот стал походить на кошелек, туго стянутый завязками. – Господин старший лоцман… – повторил он и потом вдруг выпалил: – Дело, приведшее меня сюда, касается одной молодой особы, уже более месяца проживающей у вас в доме.
– Мадемуазель Будденброк? – спросил г-н Шварцкопф.
– Совершенно верно, – почти беззвучно подтвердил г-н Грюнлих и поник головой, в углах рта у него залегли глубокие складки. – Я… вынужден сообщить вам, – продолжал он модулирующим голосом, в то время как его глаза с выражением напряженного внимания быстро перебегали от одного угла комнаты в другой, пока наконец не уставились в окно, – что в недавнем времени я просил руки упомянутой мадемуазели Будденброк, получил безусловное согласие ее родителей и что сама она, хотя формальное обручение еще и не имело места, недвусмысленно обещала мне свою руку…
– Истинный Бог? – с живейшим любопытством переспросил г-н Шварцкопф. – А я-то и не знал… Поздравляю, господин Грюнлих! От всего сердца поздравляю! Ну, вам, надо сказать, достается настоящее сокровище, самое что ни на есть…
– Премного обязан, – с подчеркнутой холодностью отвечал г-н Грюнлих. – Должен, однако, заметить, господин старший лоцман, – продолжал он все тем же модулирующим, но уже слегка угрожающим голосом, – что на пути к упомянутому мной брачному союзу совсем недавно возникли препятствия, причину которых будто бы следует искать в вашем доме. – Все это он произнес вопросительным тоном, словно спрашивая: возможно ли, что слух этот правилен?
Единственным ответом г-на Шварцкопфа было то, что он высоко вскинул свои седые брови и обеими руками, загорелыми, волосатыми руками моряка, схватился за подлокотники кресла.
– Да, так я слышал, – уверенным, хотя грустным тоном продолжал г-н Грюнлих. – До меня дошли слухи, что ваш сын, студент медицинского факультета, позволил себе… пусть без заранее обдуманного намерения… посягнуть на мои права и воспользовался пребыванием мадемуазель Будденброк в вашем доме, чтобы выманить у нее известные обещания…
– Что? – крикнул старший лоцман и, изо всей силы упершись ладонями в подлокотники, мгновенно вскочил на ноги. – Ну, это я сейчас… Ну, этого я им… – Он в два шага очутился у двери, рванул ее и голосом, который мог бы заглушить рев бури, закричал: – Мета! Мортен! Идите сюда! Оба идите!
– Весьма сожалею, господин старший лоцман, – проговорил г-н Грюнлих с тонкой усмешечкой, – если заявлением о большей давности своих прав я разрушил ваши отцовские расчеты…
Дидрих Шварцкопф обернулся и уставился ему прямо в лицо своими голубыми, в лучистых морщинках глазами, как бы силясь понять, что он такое говорит.
– Сударь, – произнес он наконец голосом человека, только что глотнувшего не в меру горячего грога, – я простой моряк и ни в каких там тонкостях и деликатностях не разбираюсь. Но ежели вы полагаете… ну, тогда позвольте вам заметить, сударь, что вы на ложном пути и сильно заблуждаетесь насчет моих правил! Я знаю, кто мой сын, и знаю, кто мадемуазель Будденброк, и у меня, сударь, довольно разума, да и гордости тоже, чтобы не заниматься «отцовскими расчетами»… А ну, говорите-ка, отвечайте! Это еще что такое, а? Что мне еще тут приходится выслушивать, нуте!
Госпожа Шварцкопф с сыном стояли в дверях: первая, ровно ничего не подозревая, оправляла сбившийся передник; Мортен же имел вид закоснелого грешника… При их появлении г-н Грюнлих даже не пошевелился: сидя на самом краешке дивана в своем наглухо застегнутом ульстере, он сохранял все то же величавое спокойствие.
– Ты, значит, вел себя как глупый мальчишка? – крикнул старший лоцман Мортену.
Молодой человек стоял, засунув большой палец между пуговиц своей куртки; взор его был мрачен, от сдерживаемой злобы он даже надул щеки.
– Да, отец, – отвечал он, – фрейлейн Будденброк и я…
– Ну, так я тебе заявляю, что ты дурак, балбес, губошлеп! Завтрашний день чтоб духу твоего здесь не было! Изволь с самого утра отправляться в Геттинген. Что это за чепуха такая?! Вздор! Чтоб больше я об этом не слышал.
– О Господи, Дидрих, – воскликнула г-жа Шварцкопф, умоляюще складывая руки, – как же это можно так сгоряча?.. Кто знает… – Она умолкла. Лучшие ее надежды здесь, на ее глазах, рассыпались прахом.
– Угодно вам видеть барышню? – не умеряя своего голоса, спросил старший лоцман г-на Грюнлиха.
– Она у себя в комнате и сейчас спит, – вмешалась г-жа Шварцкопф; она успела привязаться к Тони, и голос ее звучал растроганно.
– Весьма сожалею, – сказал г-н Грюнлих, в глубине души почувствовав облегчение, и поднялся. – Как я уже заявлял, у меня каждая минута на счету, и экипаж ждет. Разрешите, – продолжал он, взмахнув перед Шварцкопфом своей шляпой сверху вниз, – господин старший лоцман, выразить вам мое полное удовлетворение по поводу вашего мужественного и решительного поведения. Честь имею!
Дидрих Шварцкопф и не подумал подать ему руку, он только мотнул верхней частью своего грузного тела, как бы говоря: «А как же иначе?»
Господин Грюнлих размеренным шагом проследовал к выходу мимо Мортена и его матери.







