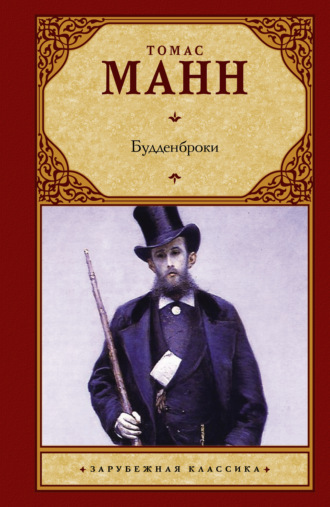
Томас Манн
Будденброки
Глава третья
Жан-Жак Гофштеде высказал в свое время достаточно меткое суждение о сыновьях консула.
Томас, с самого рождения предназначенный к тому, чтобы стать коммерсантом, а в будущем владельцем фирмы, и потому посещавший реальное отделение школы в старом здании с готическими сводами, был умный, подвижный и смышленый мальчик, что, впрочем, не мешало ему от души веселиться, когда Христиан, учившийся в гимназии, не менее способный, но недостаточно серьезный, с невероятным комизмом передразнивал своих учителей, и в первую очередь бравого Марцеллуса Штенгеля, преподававшего пение, рисование и прочие занимательные предметы.
Господин Штенгель, у которого из жилетного кармана всегда высовывалось не менее полдюжины великолепно отточенных карандашей, носивший ярко-рыжий парик, долгополый светло-коричневый сюртук и такие высокие воротнички, что их концы торчали почти вровень с висками, был заядлый остряк и большой охотник до философских разграничений, вроде: «Тебе надо провести линию, дитя мое, а ты что делаешь? Ты проводишь черту!» Он выговаривал не «линия», а «линья». Нерадивому ученику он объявлял: «Ты будешь сидеть в пятом классе не положенный срок, а бессрочно» (звучало это как «шрок» и «бешшрочно»). Больше всего он любил на уроке пения заставлять мальчиков разучивать известную песню «Зеленый лес», причем некоторым из учеников приказывал выходить в коридор и, когда хор запевал:
Мы весело бродим полями, лесами… —
тихо-тихо повторять последнее слово, изображая эхо. Если эта обязанность возлагалась на Христиана, его кузена Юргена Крегера или приятеля Андреаса Гизеке, сына городского брандмайора, то они, вместо того чтобы изображать сладкоголосое эхо, скатывали по лестнице ящик из-под угля, за что и должны были оставаться после уроков на квартире г-на Штенгеля. Впрочем, там они чувствовали себя совсем неплохо. Г-н Штенгель, успевавший за это время все позабыть, приказывал своей домоправительнице подать ученикам Будденброку, Крегеру и Гизеке по чашке кофе «на брата» и вскоре отпускал молодых людей восвояси…
И в самом деле, ученые мужи, просвещавшие юношество в стенах старой, некогда монастырской, школы, под мягким руководством добродушного, вечно нюхавшего табак старика директора, были люди безобидные и незлобивые, все, как один, полагавшие, что наука и веселье отнюдь не исключают друг друга, и старавшиеся внести в свое дело снисходительную благожелательность.
В средних классах преподавал латынь некий долговязый господин с русыми бакенбардами и живыми блестящими глазами, по фамилии Пастор, ранее и вправду бывший пастором, который не переставал радоваться совпадению своей фамилии со своим духовным званием и устанавливать, что латинское слово «pastor» означает: «пастырь», «пастух». Любимым его изречением было: «Безгранично ограниченный», и никто так никогда и не узнал, говорилось ли это в шутку или всерьез.
Развлекал он учеников и своим виртуозным умением втягивать губы в рот и вновь выпускать их с таким треском, словно выскочила пробка из бутылки с шампанским. Он любил также, большими шагами расхаживая по классу, с невероятной живостью описывать тому или другому ученику его будущее, с целью расшевелить воображение мальчиков. Но тут же становился серьезен и переходил к работе, то есть приказывал им читать стихи – вернее, ловко облеченные им в стихотворную форму правила затруднительных грамматических построений и речевых оборотов, которые он сам «декламировал» с несказанной торжественностью, отчеканивая ритм и рифмы…
Юность Тома и Христиана… Ничего примечательного о ней не расскажешь. В ту пору дом Будденброков был озарен солнечным светом, и дела в конторе и ее отделениях шли как по маслу. Правда, иногда все же случались грозы или досадные происшествия, вроде следующего.
Господин Штут, портной с Глокенгиссерштрассе, супруга которого промышляла скупкой старой одежды и потому вращалась в высших кругах, г-н Штут, чье округлое брюхо, обтянутое шерстяной фуфайкой, мощно выпирало из панталон, сшил за семьдесят марок два костюма для молодых Будденброков, но, по желанию обоих, согласился поставить в счет восемьдесят и вручить им разницу чистоганом, – дельце пусть не совсем чистое, но не такое уж из ряда вон выходящее.
Беда заключалась в том, что какими-то неисповедимыми путями все это выплыло наружу, так что г-ну Штуту пришлось облачиться в черный сюртук поверх шерстяной фуфайки и предстать перед консулом Будденброком, который в его присутствии учинил строжайший допрос Тому и Христиану. Г-н Штут, стоявший подле кресла консула, широко расставив ноги и почтительно склонив голову, заверил последнего, что «раз уж такое вышло дело», он рад будет получить и семьдесят марок, – «ничего не попишешь, коли так повернулось…». Консул был в негодовании от этой выходки сыновей. Впрочем, по зрелом размышлении он решил впредь выдавать им больше карманных денег, ибо сказано: «Не введи нас во искушение».
На Томаса Будденброка явно приходилось возлагать больше надежд, чем на его брата.
У Томаса был характер ровный, ум живой и сметливый. Христиан, напротив, отличался неуравновешенностью, был порой нелепо дурашлив и мог вдруг невероятнейшим образом напугать всю семью…
Сидят, бывало, все за столом, приятно беседуя; на десерт поданы фрукты.
Христиан кладет надкусанный персик обратно на тарелку, лицо его бледнеет, круглые, глубоко посаженные глаза расширяются.
– Никогда больше не буду есть персиков! – объявляет он.
– Почему?.. Что за глупости? Что с тобой?
– А вдруг я по нечаянности… проглочу эту здоровенную косточку, вдруг она застрянет у меня в глотке… Я начинаю задыхаться… вскакиваю, меня душит, все вы тоже вскакиваете… – У него неожиданно вырывается отчаянный и жалобный стон: «О-о!» Он беспокойно ерзает на стуле, потом встает и делает движение, словно собираясь бежать.
Консульша, а также мамзель Юнгман и вправду вскакивают с места.
– Господи, Боже ты мой! Но ведь ты же ее не проглотил, Христиан?
По виду Христиана можно подумать, что косточка уже встала у него поперек горла.
– Нет, конечно, нет, – отвечает он, мало-помалу успокаиваясь. – Ну а что, если бы проглотил?
Консул, тоже бледный от испуга, начинает его бранить, дед гневно стучит по столу, заявляя, что впредь не потерпит этих дурацких выходок. Но Христиан действительно долгое время не ест персиков.
Глава четвертая
В один морозный январский день, через шесть лет после того как Будденброки переехали в дом на Менгштрассе, мадам Антуанетта слегла в свою высокую кровать под балдахином, чтобы уже больше не подняться; и свалила ее не одна только старческая слабость. До последних дней старая дама была бодра и с привычным достоинством носила свои тугие белые букли; она посещала вместе с супругом и детьми все торжественные обеды, которые давались в городе, а во время приемов в доме Будденброков не отставала от своей элегантной невестки в выполнении обязанностей хозяйки. Однажды она вдруг почувствовала какое-то странное недомогание, поначалу лишь легкий катар кишок – доктор Грабов прописал ей кусочек голубя и французскую булку, – потом у нее начались рези и рвота, с непостижимой быстротой повлекшие за собою полный упадок сил и такую слабость и вялость, что одно это уже внушало опасения.
После того как у консула состоялся на лестнице краткий, но серьезный разговор с доктором Грабовым и вместе с ним стал приходить второй врач, коренастый, чернобородый, мрачного вида мужчина, как-то переменился даже самый облик дома. Все ходили на цыпочках, скорбно перешептывались. Подводам было запрещено проезжать через нижние сени. Словно вошло сюда что-то новое, чужое, необычное – тайна, которую каждый читал в глазах другого. Мысль о смерти проникла в дом и стала молчаливо царить в его просторных покоях.
При этом никто не предавался праздности, ибо прибыли гости. Болезнь длилась около двух недель, и уже к концу первой недели приехал из Гамбурга брат умирающей – сенатор Дюшан с дочерью, а двумя днями позднее, из Франкфурта, – сестра консула с супругом-банкиром. Все они поселились в доме, и у Иды Юнгман хлопот было не обобраться: устраивать спальни, закупать портвейн и омаров к завтраку, в то время как на кухне уже парили и жарили к обеду.
Наверху, у постели больной, сидел Иоганн Будденброк, держа в руках ослабевшую руку своей старой Нетты; брови у него были слегка приподняты, нижняя губа отвисла. Он молча смотрел в пространство. Стенные часы тикали глухо и прерывисто, но еще глуше и прерывистее было дыхание больной. Сестра милосердия в черном платье приготовляла мясной отвар, который врач пытался дать мадам Антуанетте; время от времени неслышно входил кто-нибудь из домочадцев и вновь исчезал.
Возможно, Иоганн Будденброк вспоминал о том, как сорок шесть лет назад впервые сидел у постели умирающей жены; возможно, сравнивал дикое отчаяние, владевшее им тогда, и тихую тоску, с которой он, сам уже старик, вглядывался теперь в изменившееся, ничего не выражающее, до ужаса безразличное лицо старой женщины, которая никогда не заставила его испытать ни большого счастья, ни большого страдания, но долгие годы умно и спокойно жила бок о бок с ним и теперь медленно угасала.
Он ни о чем, собственно, не думал и только, неодобрительно покачивая головой, всматривался в пройденный путь, в жизнь, ставшую вдруг какой-то далекой и чуждой, в эту бессмысленно шумную суету, в круговороте которой он некогда стоял и которая теперь неприметно от него отступала, но, как-то назойливо для его уже отвыкшего слуха, продолжала шуметь вдали. Время от времени он вполголоса бормотал:
– Странно! Очень странно!
И когда мадам Будденброк испустила свой последний короткий и безболезненный вздох, когда в большой столовой носильщики подняли покрытый цветами гроб и, тяжело ступая, понесли его, он даже не заплакал, но с тех пор все тише, все удивленнее покачивал головой, и сопровождаемое кроткой улыбкой «Странно! Очень странно!» сделалось его постоянным присловием.
Без сомнения, сочтены были и дни Иоганна Будденброка.
Отныне он сидел в кругу семьи молчаливый и отсутствующий, а если брал на руки маленькую Клару и начинал петь ей одну из своих смешных песенок, как например:
Подходит омнибус к углу…
Или
Гуляла муха по стеклу… —
то случалось, что он вдруг умолкал и, точно обрывая долгую чреду полубессознательных мыслей, спускал внучку с колен, покачивая головой, бормотал: «Странно!» – и отворачивался… Однажды он сказал:
– Жан, assez?[32] А?..
И вскоре по городу разошлись аккуратно отпечатанные и скрепленные двумя подписями уведомления, в которых Иоганн Будденброк senior учтиво оповещал адресатов о том, что преклонный возраст понуждает его прекратить свою торговую деятельность, и посему фирма «Иоганн Будденброк», учрежденная его покойным отцом еще в 1768 году, со всем своим активом и пассивом переходит под тем же названием в единоличное владение его сына и компаньона – Иоганна Будденброка-младшего. Далее следовала просьба удостоить сына такого же доверия, каким пользовался он сам, и подпись: «Иоганн Будденброк senior, отныне уже не глава фирмы».
Но после того как эти уведомления были разосланы и старик заявил, что ноги его больше не будет в конторе, его задумчивость и безразличие возросли до степени уже устрашающей. И вот в середине марта, через несколько месяцев после кончины жены, Иоганн Будденброк, схватив пустячный весенний насморк, слег в постель. А вскоре наступила ночь, когда вся семья собралась у одра больного, и он обратился к консулу:
– Итак, счастливо, Жан, а? И помни – courage!
Потом к Томасу:
– Будь помощником отцу!
И к Христиану:
– Постарайся стать человеком!
После этих слов старик умолк, оглядел всех собравшихся и, в последний раз пробормотав: «Странно!» – отвернулся к стене.
Он до самой кончины так и не упомянул о Готхольде, да и старший сын на письменное предложение консула прийти к одру умирающего отца ответил молчанием. Правда, на следующее утро, когда уведомления о смерти еще не были разосланы и консул спускался по лестнице, чтобы отдать неотложные распоряжения в конторе, произошло примечательное событие: Готхольд Будденброк, владелец бельевого магазина «Зигмунд Штювинг и К°» на Брейтенштрассе, быстрым шагом вошел в сени. Сорока шести лет от роду, невысокий и плотный, он носил пышные, густые белокурые бакенбарды, в которых местами уже сквозила седина. На его коротких ногах мешком болтались брюки из грубой клетчатой материи. Заторопившись навстречу консулу, он высоко поднял брови под полями серой шляпы и тут же нахмурил их.
– Что слышно, Иоганн? – произнес он высоким и приятным голосом, не подавая руки брату.
– Сегодня ночью он скончался, – взволнованно отвечал консул и схватил руку брата, державшую зонтик. – Наш дорогой отец!
Готхольд насупил брови; они нависли так низко, что веки сами собой закрылись. Помолчав, он холодно спросил:
– До последней минуты так ничего и не изменилось, Иоганн?
Консул тотчас же выпустил его руку, более того – поднялся на одну ступеньку вверх; взгляд его круглых глубоко посаженных глаз вдруг стал ясным, когда он ответил:
– Ничего!
Брови Готхольда снова взлетели вверх к полям шляпы, а глаза выжидательно уставились на брата.
– Могу ли я рассчитывать на твое чувство справедливости? – спросил он, понизив голос.
Консул тоже потупился, но затем, так и не поднимая глаз, сделал решительное движение рукой – сверху вниз и ответил тихо, но твердо:
– В эту тяжкую и трудную минуту я протянул тебе руку как брату. Что же касается деловых вопросов, то я могу обсуждать их только как глава всеми уважаемой фирмы, единоличным владельцем которой я являюсь с сегодняшнего дня. Ты не можешь ждать от меня ничего, что противоречило бы долгу, который налагает на меня это звание. Здесь все другие мои чувства должны умолкнуть.
Готхольд ушел. Тем не менее на похороны, когда толпа родственников, знакомых, клиентов, грузчиков, конторщиков, складских рабочих, а также депутаций от всевозможных фирм заполнила комнаты, лестницы и коридоры и все извозчичьи кареты города длинной вереницей выстроились вдоль Менгштрассе, он, к нескрываемой радости консула, все же явился в сопровождении супруги, урожденной Штювинг, и трех уже взрослых дочерей: Фридерики и Генриетты – сухопарых и долговязых девиц, и младшей – коротышки Пфиффи, непомерно толстой для своих восемнадцати лет.
После речи, которую произнес над открытой могилой в фамильном склепе Будденброков, на опушке кладбищенской рощи за Городскими воротами, пастор Келлинг из Мариенкирхе, мужчина крепкого телосложения, с могучей головой и грубоватой манерой выражаться, – речи, восхвалявшей воздержанную, богоугодную жизнь покойного, не в пример жизни некоторых «сластолюбцев, обжор и пьяниц», – так он и выразился, хотя при этом многие, помнившие благородную скромность недавно умершего старого Вундерлиха, недовольно переглянулись, – словом, после окончания всех церемоний и обрядов, когда не то семьдесят, не то восемьдесят наемных карет уже двинулись обратно в город, Готхольд Будденброк вызвался проводить консула, объяснив это своим желанием переговорить с ним с глазу на глаз. И что же: сидя рядом с братом в высокой, громоздкой и неуклюжей карете и положив одну короткую ногу на другую, Готхольд проявил неожиданную кротость и сговорчивость. Он объявил, что чем дальше, тем больше понимает правоту консула в этом деле и что не хочет поминать лихом покойного отца. Он отказывается от своих притязаний тем охотнее, что решил вообще покончить с коммерцией и, уйдя на покой, жить на свою долю наследства и на то, что ему удалось скопить. Бельевой магазин все равно доставляет ему мало радости и торгует так вяло, что он не рискнет вложить в него дополнительный капитал.
«Господь не взыскует милостью строптивого сына», – подумал консул, возносясь душою к Богу.
И Готхольд, вероятно, подумал то же самое.
По приезде на Менгштрассе консул поднялся с братом в маленькую столовую, где оба они, продрогшие от долгого стояния на весеннем воздухе, выпили по рюмке старого коньяку. Потом Готхольд обменялся с невесткой несколькими учтивыми, пристойными случаю словами, погладил детей по головкам и удалился, а неделю спустя приехал на очередной «детский день» в загородный дом Крегеров. Он уже приступил к ликвидации своего магазина.
Глава пятая
Консула очень огорчало, что отцу не суждено было дожить до вступления в дело старшего внука, – события, которое свершилось в том же году, после Пасхи.
Томасу было шестнадцать лет, когда он вышел из училища. За последнее время он сильно вырос и после конфирмации, во время которой пастор Келлинг в энергических выражениях призывал его к умеренности, начал одеваться как взрослый, отчего казался еще выше. На шее он носил оставленную ему дедом длинную золотую цепочку, на которой висел медальон с гербом Будденброков, – гербом довольно меланхолическим: его неровно заштрихованная поверхность изображала болотистую равнину с одинокой и оголенной ивой на берегу.
Старинное фамильное кольцо с изумрудной печаткой, предположительно принадлежавшее еще «жившему в отличном достатке» портному из Ростока, и большая Библия перешли к консулу.
С годами Томас стал так же сильно походить на деда, как Христиан на отца. В особенности напоминали старого Будденброка его круглый характерный подбородок и прямой, тонко очерченный нос. Волосы его, разделенные косым пробором и двумя заливчиками отступавшие от узких висков с сетью голубоватых жилок, были темно-русые; по сравнению с ними ресницы и брови – одну бровь он часто вскидывал кверху – выглядели необычно светлыми, почти бесцветными. Движения Томаса, речь, а также улыбка, открывавшая не слишком хорошие зубы, были спокойны и рассудительны. К будущему своему призванию он относился серьезно и ревностно.
То был в высшей степени торжественный день, когда консул после первого завтрака взял с собой сына в контору, чтобы представить его г-ну Маркусу – управляющему, г-ну Хаверманну – кассиру и остальным служащим, хотя Том давно уже состоял со всеми ими в самых лучших отношениях; в этот день наследник фирмы впервые сидел на вертящемся стуле у конторки, усердно штемпелюя, разбирая и переписывая бумаги, а под вечер отправился вместе с отцом вниз, к Тра́ве, в амбары «Липа», «Дуб», «Лев» и «Кит», где он тоже, собственно говоря, давно чувствовал себя как дома, но теперь шел туда представляться в качестве сотрудника.
Он самозабвенно предался делу, подражая молчаливому, упорному рвению отца, который работал не щадя сил и не раз записывал в свой дневник молитвы о ниспослании ему помощи свыше, – ведь консулу надлежало теперь возместить значительный капитал, утраченный фирмой по смерти старика Будденброка, фирма же в их семье была понятием священным.
Однажды вечером в ландшафтной он довольно подробно обрисовал жене истинное положение дел.
Было уже половина двенадцатого, дети и мамзель Юнгман спали в комнатах, выходивших в коридор, ибо третий этаж теперь пустовал, и там лишь время от времени ночевали приезжие гости. Консульша сидела на белой софе, рядом с мужем, который просматривал «Биржевые ведомости» и курил сигару. Она склонилась над вышиваньем и, чуть-чуть шевеля губами, иголкой подсчитывала стежки. Около нее, на изящном рабочем столике с золотым орнаментом, в канделябре горело шесть свечей; люстру в этот вечер не зажигали.
Иоганн Будденброк, которому давно уже перевалило за сорок, в последнее время заметно состарился. Его маленькие круглые глаза, казалось, еще глубже ушли в орбиты, большой горбатый нос и скулы стали резче выдаваться вперед, а белокурые волосы, разделенные аккуратным пробором, выглядели слегка припудренными на висках. Что же касается консульши, то она на исходе четвертого десятка полностью сохранила свою пусть не безупречно красивую, но блестящую внешность, и даже матовая белизна ее кожи, чуть-чуть тронутой веснушками, не утратила своей природной нежности. Ее рыжеватые, искусно уложенные волосы мерцали золотом в свете канделябров. Отведя на мгновение от работы светло-голубые глаза, она сказала:
– Я прошу тебя подумать, дорогой мой Жан: не следует ли нам нанять лакея?.. По-моему, это очень желательно. Когда я вспоминаю о доме моих родителей…
Консул опустил газету на колени и вынул изо рта сигару; взгляд его сделался напряженным: ведь речь шла о новых денежных издержках.
– Вот что я тебе скажу, моя дорогая и уважаемая Бетси. – Он прибег к столь длинному обращению, чтобы иметь время придумать достаточно веские возражения. – Ты говоришь, лакея? После смерти родителей мы оставили в доме всех трех служанок, не говоря уж о мамзель Юнгман, и мне думается…
– Ах, Жан, дом такой огромный, что я иногда прихожу в отчаяние. Я, конечно, говорю: «Лина, милочка, в задних комнатах бог знает как давно не вытиралась пыль». Но не могу же я допустить, чтобы люди выбивались из сил; ты не знаешь, сколько они и без того возятся, стараясь хоть эту часть дома содержать в чистоте и порядке… Лакея можно посылать с поручениями, да и вообще… Нам следовало бы взять толкового и непритязательного человека из деревни… Кстати, пока я не забыла: Луиза Меллендорф собирается отпустить своего Антона; я видела, как он умело прислуживает за столом…
– Должен признаться, – сказал консул и с неудовольствием задвигался на софе, – что я никогда об этом не думал. Мы сейчас почти не посещаем общества и сами не даем вечеров…
– Верно, верно, но гости у нас бывают часто, и ты знаешь, что они приходят не ко мне, дорогой мой, хотя я от души им рада. Приезжает к тебе старый клиент из другого города, ты приглашаешь его к обеду, – он еще не успел снять номер в гостинице, – и, само собой разумеется, ночует у нас. Потом приезжает миссионер и гостит у нас дней семь-восемь… Через две недели мы ждем пастора Матиаса из Канштата… Словом, расход на жалованье так незначителен, что…
– Но сколько таких расходов, Бетси! Мы оплачиваем четырех людей в доме, а ты забываешь жалованье конторским служащим.
– Неужели уж нам не под силу держать лакея? – с улыбкой спросила консульша, склонив голову и искоса взглядывая на мужа. – Когда я думаю о количестве прислуги у моих родителей…
– У твоих родителей, милая Бетси? Нет, я все-таки должен спросить: достаточно ли ясно ты себе представляешь, как обстоят наши дела?
– Ты прав, Жан, я не очень-то во всем этом разбираюсь.
– Сейчас я разъясню тебе, – сказал консул. Он уселся поудобнее, закинул ногу на ногу, затянулся сигарой и, слегка прищурившись, начал бойко оглашать цифры: – Без лишних слов: покойный отец до замужества моей сестры имел круглым счетом девятьсот тысяч марок, не считая, разумеется, земельной собственности и стоимости фирмы. Восемьдесят тысяч ушли во Франкфурт в качестве приданого. Сто тысяч были даны Готхольду на обзаведение. Остается, как видишь, семьсот двадцать тысяч. Затем был приобретен этот дом, обошедшийся – помимо суммы, которую мы выручили за наш старый домик на Альфштрассе, – со всеми улучшениями и нововведениями ровно в сто тысяч марок; остается шестьсот двадцать тысяч. Сестре уплатили компенсацию в размере двадцати пяти тысяч, – следовательно, в остатке пятьсот девяносто пять тысяч. Таким капитал и остался бы до смерти отца, если бы все эти расходы не были в течение нескольких лет возмещены прибылью в двести тысяч марок. Следовательно, наше состояние вновь возросло до семисот девяноста пяти тысяч. По смерти отца Готхольду было выплачено еще сто тысяч марок, франкфуртской родне – двести шестьдесят семь тысяч. Если прибавить к этому еще несколько тысяч марок, составившихся из небольших сумм, завещанных отцом больнице Святого Духа, купеческой вдовьей кассе и тому подобное, останется четыреста двадцать тысяч, а с твоим приданым на сто тысяч больше. Вот тебе итог. Конечно, без учета известного колебания ценностей. Мы не так уж страшно богаты, дорогая моя Бетси. И вдобавок следует помнить, что наше дело хоть и сократилось, но расходы остались те же; оно так поставлено, что у нас нет возможности их урезать… Ты поняла меня?
Консульша, все еще державшая вышиванье на коленях, кивнула, впрочем, несколько неуверенно.
– Отлично поняла, мой милый Жан, – отвечала она, хотя отнюдь не все было ей понятно. А главное, она не могла взять в толк: почему все эти крупные суммы должны помешать ей нанять лакея?
Сигара консула вновь вспыхнула красным огоньком, он откинул голову, выпустил дым и продолжал:
– Ты полагаешь, что, когда Господь призовет к себе твоих родителей, нам достанется довольно солидный капитал? Это верно. Но тем не менее… Мы не вправе легкомысленно на него рассчитывать. Мне известно, что твой отец понес довольно значительные убытки; известно также, что это случилось из-за Юстуса… Юстус – превосходный человек, но делец не из сильных, и к тому же ему очень не повезло. При нескольких операциях со старыми клиентами он понес значительный урон, а результатом уменьшения оборотного капитала явилось вздорожание кредитов, по соглашению с банками, и твоему отцу пришлось вызволять его из беды с помощью довольно крупных сумм. Подобная история может повториться, боюсь даже, что повторится обязательно, ибо – ты уж прости меня, Бетси, за откровенность – то несколько легкое отношение к жизни, которое так симпатично в твоем отце, давно удалившемся от дел, отнюдь не пристало твоему брату, деловому человеку. Ты понимаешь меня… он недостаточно осторожен… Что? Как-то слишком опрометчив и поверхностен… А твои родители – и я этому душевно рад – до поры до времени ничем не поступаются; они ведут барскую жизнь, как им и подобает при их положении.
Консульша снисходительно усмехнулась: она знала предубеждение мужа против барственных замашек ее семьи.
– Так вот, – продолжал он, кладя в пепельницу окурок сигары, – я со своей стороны полагаюсь главным образом на то, что Господь сохранит мне трудоспособность, дабы я с его милосердной помощью мог довести капитал фирмы до прежнего размера… Надеюсь, тебе теперь все стало гораздо яснее, Бетси?
– О да, Жан, конечно! – торопливо отвечала консульша, ибо на этот вечер она уже решила отказаться от разговора о лакее. – Но пора спать, мы сегодня и так засиделись…
Впрочем, несколько дней спустя, когда консул вернулся из конторы к обеду в отличнейшем расположении духа, было решено взять Антона, отпущенного Меллендорфами.







