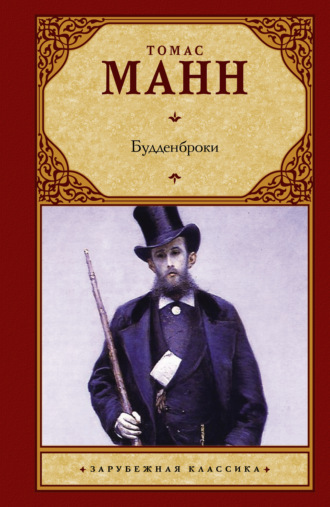
Томас Манн
Будденброки
Глава четвертая
– Ну-с, доложу я вам, есть с чем поздравить Будденброка! – Мощный голос г-на Кеппена перекрыл гул застольной беседы как раз в минуту, когда горничная с обнаженными красными руками, в домотканой полосатой юбке и в маленьком белом чепчике на затылке, при деятельном участии мамзель Юнгман и второй горничной «сверху» – то есть из апартаментов консульши – подала на стол гренки и дымящийся бульон с овощами, и кое-кто уже неторопливо приступил к еде. – Поздравляю от всей души! Какой простор! Знатный дом, да и только! Да-с, доложу я вам, здесь жить можно!..
Господин Кеппен не был принят у прежних владельцев: он недавно разбогател, родом был отнюдь не из патрицианской семьи и, к сожалению, еще не расстался с привычкой пересыпать свою речь всевозможными «доложу я вам» и так далее. К тому же он говорил не «поздравляю», а «проздравляю».
– По цене и товар, – сухо вставил г-н Гретьенс, бывший маклером при покупке этого дома, и, сложив руки трубкой, принялся рассматривать залив.
Гостей – родственников и друзей дома – рассадили по мере возможности вперемежку. Но до конца выдержать этот распорядок не удалось, и старики Эвердики, сидя, как всегда, чуть ли не на коленях друг у друга, то и дело обменивались нежными взглядами. Зато старый Крегер, прямой и высокий, восседая между сенаторшей Лангхальс и мадам Антуанеттой, царственно делил свои впрок заготовленные шутки между обеими дамами.
– Когда, собственно, был построен этот дом? – обратился через стол г-н Гофштеде к старому Будденброку, который веселым и слегка насмешливым голосом переговаривался с мадам Кеппен.
– Anno…[14] погоди-ка… anno… тысяча шестьсот восьмидесятом, если не ошибаюсь. Впрочем, мой сын лучше меня это знает…
– В восемьдесят втором, – подымая глаза от тарелки, уточнил консул, сидевший несколько ниже; он остался без дамы, и его соседом был сенатор Лангхальс. – Постройку закончили зимой восемьдесят второго года. «Ратенкамп и компания» тогда быстро шли в гору… Тяжело думать об упадке, в котором вот уже двадцать лет находится эта фирма…
Разговор замолк, и с полминуты за столом царила тишина. Все уставились в тарелки, думая о семействе, некогда столь славном. Ратенкампы выстроили этот дом и жили в нем, а позднее, обеднев и опустившись, должны были его покинуть…
– Еще бы не тяжело, – произнес наконец маклер Гретьенс, – когда вспомнишь, какое безумие послужило причиной этого упадка… О, если бы не этот Геельмак, которого Дитрих Ратенкамп взял тогда себе в компаньоны! Я просто за голову схватился, когда тот начал хозяйничать. Мне-то, господа, достоверно известно, какими бесстыдными спекуляциями он занимался за спиной у Ратенкампа, как раздавал направо и налево векселя и акцепты фирмы… Ну и доигрался! Сначала иссякли кредиты, потом не стало обеспечений… Вы себе и представить не можете… А кто склады контролировал? Геельмак? О нет, он и его присные годами хозяйничали там, как крысы! А Ратенкамп на все смотрел сквозь пальцы…
– На Ратенкампа нашла какая-то одурь, – сказал консул; его лицо приняло мрачное замкнутое выражение; склонившись над тарелкой, он помешивал ложкой суп и только время от времени поглядывал своими маленькими круглыми, глубоко посаженными глазами на верхний конец стола. – Его словно пригибала к земле какая-то тяжесть. И, по-моему, в этом нет ничего удивительного. Что заставило его связаться с этим Геельмаком, у которого и капитала-то почти не было, а была только дурная слава? Видимо, он ощущал потребность свалить на кого-нибудь хоть часть своей огромной ответственности, ибо знал, что неудержимо катится в пропасть. Эта фирма окончила свое существование, старый род пришел в упадок. Вильгельм Геельмак явился только последним толчком к гибели…
– Вы, значит, полагаете, уважаемый господин консул, – сказал пастор Вундерлих, наполняя красным вином бокал своей дамы и свой собственный, – что все происшедшее совершилось бы и без этого Геельмака и его диких поступков?
– Ну, не совсем так, – отвечал консул, ни к кому в отдельности не обращаясь, – но мне думается, что встреча Дитриха Ратенкампа с Геельмаком была необходима и неизбежна, дабы могло свершиться предначертание рока… Он, видимо, действовал под неумолимым гнетом необходимости… Я уверен, что он в какой-то мере раскусил своего компаньона и не был в таком уж полном неведении относительно того, что творилось на складах. Но он словно окаменел…
– Ну, assez[15], Жан! – сказал старый Будденброк и положил ложку. – Это одна из твоих idées[16].
Консул с рассеянной улыбкой приблизил свой бокал к бокалу отца. Но тут заговорил Лебрехт Крегер:
– Оставим прошлое и вернемся к радостному настоящему.
С этими словами он осторожным и изящным жестом взял за горлышко бутылку белого вина с пробкой, украшенной маленьким серебряным оленем, слегка отодвинул ее от себя и принялся внимательно рассматривать этикетку.
– «К.Ф. Кеппен», – прочитал он и любезно улыбнулся виноторговцу. – Ах, что бы мы были без вас!
Горничные стали сменять мейссенские тарелки с золотым ободком, причем мадам Антуанетта зорко наблюдала за их движениями, а мамзель Юнгман отдавала приказания в переговорную трубу, соединявшую столовую с кухней.
Когда принесли рыбу, пастор Вундерлих, усердно накладывая себе на тарелку, сказал:
– А ведь настоящее могло быть и не столь радостным. Молодежь, которая сейчас сорадуется с нами, старыми людьми, и не представляет себе, что когда-то все шло по-другому. Я вправе сказать, что моя личная судьба нередко сплеталась с судьбами наших милых Будденброков… Всякий раз, как я смотрю на такую вот вещь, – он взял со стола одну из тяжеловесных серебряных ложек и обернулся к мадам Антуанетте, – я невольно спрашиваю себя, не ее ли в тысяча восемьсот шестом году держал в руках наш друг, философ Ленуар, сержант его величества императора Наполеона, и вспоминаю, мадам, нашу встречу на Альфштрассе…
Мадам Будденброк смотрела прямо перед собой с улыбкой, немного застенчивой и мечтательно обращенной в прошлое. Том и Тони на нижнем конце стола, которые терпеть не могли рыбу и внимательно прислушивались к разговору взрослых, почти одновременно закричали:
– Расскажите, расскажите, бабушка!
Но пастор, по опыту зная, что она неохотно распространяется об этом случае, для нее несколько конфузном, уже сам начал рассказ об одном давнем происшествии, который дети никогда не уставали слушать и который кому-нибудь из гостей, может быть, был и в новинку.
– Итак, представьте себе ноябрьский день; на дворе стужа и дождь льет как из ведра; я ходил по делам своего прихода и вот возвращаюсь по Альфштрассе, раздумывая о наступивших трудных временах. Князь Блюхер ретировался, город наш занят французами, но волнение, всех обуявшее, почти не чувствуется. Улицы тихи, люди предпочитают отсиживаться по домам. Мясник Праль, который, по обыкновению, засунув руки в карманы, вышел постоять у дверей своей лавки и вдруг громовым голосом воскликнул: «Да что же это делается? Бог знает, что за безобразие!» – получил пулю в голову, и конец… Так вот иду я и думаю: надо бы заглянуть к Будденброкам; мое появление может оказаться весьма кстати: муж лежит больной – рожа на голове, а у мадам с постоями хлопот не обобраться.
И в эту самую минуту, как бы вы думали, кто попадается мне навстречу? Наша достоуважаемая мадам Будденброк! Но в каком виде! Дождь, а она идет – вернее, бежит – без шляпы, шаль едва держится на плечах, а куафюра у нее так растрепана… – увы, это правда, мадам! – что вряд ли здесь даже было применимо слово «куафюра».
«О, сколь приятный сюрприз, – говорю я и беру на себя смелость удержать за рукав мадам, которая меня даже не замечает, и мое сердце сжимается недобрым предчувствием. – Куда вы так спешите, любезнейшая?» Тут она меня узнает и кричит: «Ах, это вы… Прощайте! Все кончено! Я сейчас брошусь в Тра́ву». – «Боже вас упаси! – говорю я и чувствую, что кровь отливает у меня от лица. – Это место совсем для вас неподходящее. Но что случилось?» И я держу ее так крепко, как это допускает мое почтительное отношение к мадам Будденброк. «Что случилось? – повторяет она, дрожа всем телом. – Они залезли в мое серебро, Вундерлих! Вот что случилось! А у Жана рожа на голове, и он не в состоянии встать с постели. Да, впрочем, будь он на ногах, он тоже ничем не мог бы помочь мне. Они воруют мои ложки, мои серебряные ложки! Вот что случилось, Вундерлих! И я сейчас утоплюсь в Тра́ве». Ну что ж, я держу нашу дорогую мадам Будденброк и говорю все, что говорят в таких случаях. Говорю: «Мужайтесь, дитя мое! Все обойдется!» И еще: «Мы попробуем поговорить с этими людьми. Возьмите себя в руки, заклинаю вас! Идемте скорее!» И я веду ее домой. В столовой мы застаем ту же картину, от которой бежала мадам: солдаты – человек двадцать – роются в ларе с серебром. «С кем из вас, милостивые государи, мне позволено будет вступить в переговоры?» – учтиво обращаюсь я к ним. В ответ раздается хохот: «Да со всеми, папаша!» Но тут один выходит вперед и представляется мне – длинный, как жердь, с нафабренными усами и красными ручищами, которые торчат из обшитых галунами обшлагов мундира. «Ленуар, – говорит он и отдает честь левой рукой, так как в правой держит связку из полдюжины ложек, – Ленуар, сержант. Чем могу служить?» – «Господин офицер! – говорю я, взывая к его point d’honneur[17]. – Неужели подобное занятие совместимо с вашим блистательным званием? Город не сопротивлялся императору». – «Что вы хотите, – отвечает он, – война есть война! Моим людям пришлась по душе эта утварь…» – «Вам следует принять во внимание, – перебил я его, так как меня вдруг осенила эта мысль, – что дама, – говорю я, ибо чего не скажешь в таком положении, – не немка, а скорее ваша соотечественница, француженка…» – «Француженка?» – переспрашивает он. И что, по-вашему, добавил к этому сей долговязый рубака? «Так, значит, эмигрантка? – добавил он. – Но в таком случае она враг философии». Я чуть не прыснул, но овладел собою. «Вы, как я вижу, человек ученый, – говорю я. – Повторяю, заниматься таким делом вам не пристало». Он молчит, потом внезапно заливается краской, швыряет ложки обратно в ларь и кричит: «С чего вы взяли, что я не просто любуюсь ими? Хорошенькие вещички, ничего не скажешь! И если кто-нибудь из моих людей возьмет штучку-другую себе на память…»
Ну, надо сказать, что они немало взяли себе на память, тут уж не помогли никакие призывы ни к божеской, ни к человеческой справедливости. Они не ведали иного бога, кроме этого ужасного маленького человека…
Глава пятая
– Вы видели его, господин пастор?
Прислуга опять меняет тарелки. Подается гигантский кирпично-красный копченый окорок, горячий, запеченный в сухарях, а к нему кисловатая тушеная капуста и такая пропасть других овощей, что, кажется, все сидящие за столом могли бы насытиться ими. Резать ветчину вызвался Лебрехт Крегер. Изящно приподняв локти и сильно нажимая вытянутыми пальцами на нож и вилку, он бережно отделял сочные куски от окорока. В это время внесли еще и «русский горшок», гордость консульши Будденброк, – острую и слегка отдающую спиртом смесь из различных фруктов.
Нет, пастору Вундерлиху, к сожалению, не пришлось лицезреть Бонапарта.
Но зато старый Будденброк и Жан-Жак Гофштеде видели его своими глазами: первый – в Париже, как раз перед русской кампанией, на параде, устроенном перед дворцом Тюильри; второй – в Данциге…
– Да, по правде говоря, вид у него был довольно неприветливый, – сказал поэт, высоко подняв брови и отправляя в рот кусок ветчины, брюссельскую капусту и картофель, которые ему удалось одновременно насадить на вилку… – Хотя все уверяли, что в Данциге… Рассказывали даже такой анекдот. Весь день он расправлялся с немцами, притом достаточно круто, а вечером сел играть в карты со своими генералами. «N’est-ce pas, Rapp, – сказал он, захватив со стола полную пригоршню золотых, – les Allemands aiment beaucoup ces petits Napoléons?» – «Oui, sire, plus que le Grand!»[18] – отвечал Рапп.
Среди всеобщего веселья, довольно шумного, ибо Гофштеде премило рассказал свой анекдот и даже легким намеком воспроизвел мимику императора, – старый Будденброк вдруг заявил:
– Ну, а, кроме шуток, разве величие его натуры не заслуживает восхищения?.. Что за человек!..
Консул с серьезным видом покачал головой:
– Нет, нет, наше поколение уже не понимает, почему надо преклоняться перед человеком, который умертвил герцога Энгиенского и отдал приказ уничтожить восемьсот пленных в Египте…
– Все это, может быть, и не совсем так, а может быть, сильно преувеличено, – вставил пастор Вундерлих. – Не исключено, что этот герцог и вправду был мятежным вертопрахом, а что касается пленных, то такая экзекуция, вероятно, была произведена в соответствии с решением военного совета, обусловленным необходимостью и хорошо продуманным.
И он принялся рассказывать о книге, которую ему довелось читать; написанная секретарем императора, она лишь недавно увидела свет и заслуживала всяческого внимания.
– Тем не менее, – настаивал консул и потянулся снять нагар со свечи, которая вдруг начала мигать, – для меня непостижимо, решительно непостижимо восхищение этим чудовищем! Как христианин, как человек религиозный, я не нахожу в своем сердце места для такого чувства.
На лице консула появилось задумчивое, мечтательное выражение, он даже слегка склонил голову набок, тогда как его отец и пастор Вундерлих, казалось, чуть-чуть улыбнулись друг другу.
– Что там ни говори, а те маленькие наполеончики неплохая штука, а? Мой сын положительно влюблен в Луи-Филиппа, – добавил он.
– Влюблен? – с легкой иронией переспросил Жан-Жак Гофштеде. – Забавное словосочетание: Филипп Эгалитэ и… влюблен!
– Ну, а я считаю, что нам, право же, есть чему поучиться у Июльской монархии. – Консул произнес это серьезно и горячо. – Дружелюбное и благожелательное отношение французского конституционализма к новейшим практическим идеалам и интересам нашего времени – это нечто весьма обнадеживающее.
– Н-да, практические идеалы… – Старый Будденброк, решив дать небольшую передышку своим челюстям, вертел теперь в пальцах золотую табакерку. – Практические идеалы!.. Ну, я до них не охотник. – С досады он заговорил по-нижненемецки. – Ремесленные, технические, коммерческие училища растут как грибы после дождя, а гимназии и классическое образование объявлены просто ерундой. У всех только и на уме что рудники, промышленные предприятия, большие барыши… Хорошо, ох, как хорошо! Но, с другой стороны, немножко и глуповато, если подумать… что? А впрочем, я и сам не знаю, почему Июльская монархия мне не по сердцу… Да я ничего такого и не сказал, Жан… Может, это и очень хорошо… не знаю…
Однако сенатор Лангхальс, равно как Гретьенс и Кеппен, держал сторону консула… Францию можно только поздравить с таким правительством, и стремление немцев установить такие же порядки нельзя не приветствовать… Г-н Кеппен опять выговорил «проздравить». За едой он стал еще краснее и громко сопел. Только лицо пастора Вундерлиха оставалось все таким же бледным, благородным и одухотворенным, хотя он с неизменным удовольствием наливал себе бокал за бокалом.
Свечи медленно догорали и время от времени, когда струя воздуха клонила вбок их огоньки, распространяли над длинным столом чуть слышный запах воска.
Гости и хозяева сидели на тяжелых стульях с высокими спинками, ели тяжелыми серебряными вилками тяжелые, добротные кушанья, запивали их густым, добрым вином и не спеша перебрасывались словами. Вскоре беседа коснулась торговли, и все мало-помалу перешли на местный диалект; в его тяжелых, смачных оборотах было больше краткой деловитости, нарочитой небрежности, а временами и благодушной насмешки над собою. «Биржа» в этом произношении звучала почти как «баржа», и лица собеседников при этих звуках принимали довольное выражение.
Дамы недолго прислушивались к разговору. Вниманием их овладела мадам Крегер, подробно и очень аппетитно повествовавшая о наилучшем способе тушить карпа в красном вине:
– Когда рыба разрезана на куски, моя милая, пересыпьте ее луком, гвоздикой, сухарями и сложите в кастрюльку, тогда уже добавьте ложку масла, щепоточку сахара и ставьте на огонь… Но только не мыть, сударыня! Боже упаси, ни в коем случае не мыть; важно, чтобы не вытекла кровь…
Старик Крегер отменно шутил, в то время как консул Юстэс, его сын, сидевший рядом с доктором Грабовым, ближе к детскому концу стола, занимался поддразниванием мамзель Юнгман; она щурила карие глаза и, держа, по свойственной ей странной привычке, нож и вилку вертикально, слегка раскачивалась из стороны в сторону. Даже Эвердики оживились и разговаривали очень громко. Старая консульша придумала новое нежное прозвание для своего супруга. «Ах, ты мой барашек!» – восклицала она, и чепец на ее голове трясся от наплыва чувств.
Разговор стал общим: Жан-Жак Гофштеде затронул свою излюбленную тему – путешествие в Италию, куда пятнадцать лет назад ему довелось сопровождать одного богатого гамбургского родственника. Он рассказывал о Венеции, о Риме и Везувии, о вилле Боргезе, где Гете написал несколько сцен своего «Фауста», восхищался фонтанами времен Возрождения, щедро дарующими прохладу, аллеями подстриженных деревьев, в тени которых так сладостно бродить… И тут кто-то вдруг упомянул о большом запущенном саде Будденброков, начинавшемся сразу за Городскими воротами.
– Честное слово, – отозвался старик Будденброк, – меня и сейчас еще досада берет, что я в свое время не удосужился придать ему несколько более благообразный вид! Недавно я там был; стыд, да и только – какой-то девственный лес! А какой был бы прелестный уголок, если бы посеять газоны, красиво подстричь деревья…
Но консул решительно запротестовал:
– Помилуйте, папа! Я с таким наслаждением гуляю летом в этих зарослях, и мне страшно даже подумать, что эту вольную прекрасную природу обкромсают садовые ножницы.
– Но если эта вольная природа принадлежит мне, то разве я, черт побери, не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению?..
– Ах, отец, когда я отдыхаю там под разросшимися кустами, в высокой траве, мне, право, кажется, что я принадлежу природе, а не то, что у меня есть какие-то права на нее…
– Кришан, не объедаться, – внезапно крикнул старый Будденброк. – Тильде – той ничего не сделается, уписывает за четверых, эдакая обжора-девчонка.
И правда, тихая худенькая девочка с длинным старческим личиком творила настоящие чудеса. На вопрос, не хочет ли она вторую тарелку супу, Тильда протяжно и смиренно отвечала: «Да-а, по-о-жалуйста!» Рыбу, а также ветчину она дважды брала с блюда, нацеливаясь на самые большие куски, и заодно горой накладывала себе овощей; деловито склонившись над тарелкой и не сводя с нее близоруких глаз, она все пожирала неторопливо, молча, огромными кусками. В ответ на слова старика она только протянула дружелюбно и удивленно: «О Го-о-споди, дядюшка!» Она не оробела и продолжала есть, с инстинктивным, неутолимым аппетитом бедной родственницы за богатым столом, хоть и знала, что это не принято и что над нею смеются; улыбалась безразличной улыбкой и снова и снова накладывала себе на тарелку, терпеливая, упорная, голодная и худосочная.
Глава шестая
Но вот на двух больших хрустальных блюдах внесли плеттен-пудинг – мудреное многослойное изделие из миндаля, малины, бисквитного теста и заварного крема; в тот же миг на нижнем конце стола вспыхнуло пламя: детям подали их любимый десерт – пылающий плум-пудинг.
– Томас, сынок, сделай одолжение, – сказал Иоганн Будденброк, вытаскивая из кармана панталон увесистую связку ключей: – во втором погребе, на второй полке, за красным бордо… понял?
Томас, охотно выполнявший подобные поручения, выбежал из-за стола и вскоре воротился с бутылками, запыленными и покрытыми паутиной. Но едва только из этой невзрачной оболочки полилась в маленькие бокальчики золотисто-желтая сладкая мальвазия, пастор Вундерлих встал и, подняв бокал, начал в мгновенно наступившей тишине провозглашать тост. Он говорил, изящно жестикулируя свободной рукой и слегка склонив голову набок, – причем на его бледном лице играла тонкая и чуть насмешливая улыбка, – говорил тем непринужденным, дружеским тоном, которого он любил держаться даже в проповедях:
– Итак, добрые друзья мои, да будет нам позволено осушить бокал этой превосходной влаги за благоденствие наших досточтимых хозяев в их новом, столь великолепном доме! За благоденствие семьи Будденброков и всех ее членов, как сидящих за этим столом, так и отсутствующих! Vivat!
«Отсутствующих? – думал консул, склоняя голову перед поднятыми в честь его семьи бокалами. – Кого он имеет в виду? Только ли франкфуртскую родню да еще, пожалуй, Дюшанов в Гамбурге? Или у старого Вундерлиха иное на уме?» Он встал, чтобы чокнуться с отцом, и с любовью посмотрел ему прямо в глаза.
Но тут поднялся со своего стула маклер Гретьенс; на речь ему потребовалось немало времени, а когда она была наконец произнесена, он поднял бокал за фирму «Иоганн Будденброк», за ее дальнейший рост и процветание во славу родного города.
Тут Иоганн Будденброк, как глава семьи и старший представитель торгового дома, принес гостям благодарность на добром слове и послал Томаса за третьей бутылкой мальвазии, ибо расчет, что и двух будет достаточно, на сей раз не оправдался.
Лебрехт Крегер тоже провозгласил тост; он позволил себе вольность, оставшись сидеть: ему казалось, что легкое покачивание головой и изящные движения рук должны были с места произвести еще более грациозное впечатление. Свою речь он посвятил обеим хозяйкам дома – мадам Антуанетте и консульше.
Но едва он кончил – к этому времени плеттен-пудинг был почти уже съеден, а мальвазия выпита, – как со стула, откашливаясь, поднялся Жан-Жак Гофштеде. У присутствующих вырвалось единодушное «ах!». А дети на нижнем конце стола от радости захлопали в ладоши.
– Да, excusez![19] Я не мог себе отказать… – начал поэт, одной рукой слегка потеребив свой длинный нос, а другой вытаскивая лист бумаги из кармана.
В зале воцарилась благоговейная тишина. Бумага в его руках была премило и очень пестро разукрашена, а с наружной стороны листа в овале, обрамленном красными цветами и множеством золотых завитушек, было начертано: «По случаю радостного праздника новоселья в новоприобретенном доме Будденброков и в благодарность за ими присланное мне дружеское приглашение. Октябрь 1835 года».
Он развернул лист и начал своим уже чуть-чуть дрожащим старческим голосом:
Многочтимые! Под сводом
Этих царственных палат
Пусть восторженною одой
Песни дружбы прозвучат!
Среброкудрому я другу
Посвящаю песнь мою,
Двух малюток и супругу
В звучной песне воспою.
Нежность дружбы безобманно
Говорит мне, что слита
С трудолюбием Вулкана
Здесь Венеры красота.
Пусть же Время годы косит,
Не печальтесь вы о том, —
Каждый день пускай приносит
Радость новую в ваш дом!
Пусть уносит счастье-птица
Вас в потоке ясных дней
И прекрасный век ваш длится
Вместе с дружбою моей!
Пусть бы дружбой и любовью
Светлый дом всегда встречал
И того, кто сердца кровью
Эти строки написал![20]
Гофштеде отвесил низкий поклон, и все общество дружно зааплодировало.
– Charmant, Гофштеде! – воскликнул старый Будденброк. – Твое здоровье! Нет, это прелестно!
Когда же консульша подняла свой бокал, чтобы чокнуться с Гофштеде, ее нежные щеки слегка заалели, – она поняла, на кого столь изящно намекал поэт, говоря о красоте Венеры.







