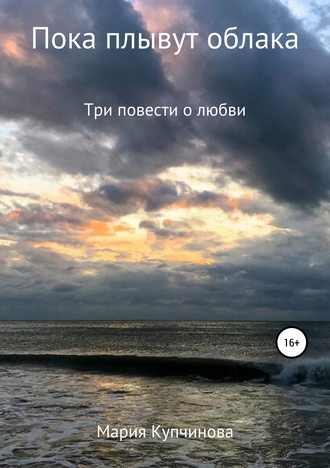
Мария Купчинова
Пока плывут облака
4
Себе-то можно признаться, как плохо ночами. Южное небо – черное. И все вокруг темно. Сегодня почему-то даже звёзды так заняты своими делами, что не хотят заглядывать к старикам. Как хочется подойти к окну, увидеть тополя, в листве которых запутался свет уличных фонарей, включенные фары проезжающих машин, разгоняющие темноту. Размечтался… Какое, оказывается, замечательное слово: «подойти» … На бок повернуться – и то с трудом.
А Зиночка? Спит? Или тоже прислушивается к его дыханию, стараясь не разбудить случайным стоном? Как медленно ползут стрелки часов… И как хочется дожить до утра.
Нет, лучше вспоминать. Воспоминания – заглушают боль.
***
Что же было в том, первом письме, которое принесла из горкома Зина? Пожалуй, дословно уже и не помнится, хотя сто раз читано-перечитано…
Странная штука память: то, что было давно, встает яркими красочными картинками, а сравнительно недавние события – застилает туман, словно кто-то не очень знакомый рассказал Ипполиту события из его же, собственной жизни, но без особых подробностей.
Тогда он ждал Зину на улице. Смотрел на часы, считая минуты, прохаживался мимо тяжелых дубовых дверей, с трудом подавляя желание рвануть их и вбежать внутрь. Но все равно пропустил момент, когда она вышла.
Черное платье подчеркивало отлично сохранившуюся фигуру, зачесанные назад волосы открывали высокий лоб, строгие серые глаза, казалось, искали кого-то и не находили. Зина стояла на ступеньках, почему-то вытянув вперед руку с расстегнутой сумочкой. В первую секунду он даже залюбовался ею, пока не понял, что она теряет сознание и падает.
Каким-то чудом все-таки успел, подхватил. Скорая помощь приехала довольно быстро и сразу поставила диагноз: «Инсульт».
Правая рука Зины так и осталась парализованной, но вернулась память, речь. Первый вопрос был:
– Письмо?
Оно шло больше года, это письмо. Вернее, где-то лежало, ожидая команды "можно". Коротенькое, в пол-листочка: жива, замужем за бывшим американским лейтенантом, работает, двое сыновей…
Конечно, Зина спрятала письмо под подушку, читала днем и ночью; конечно, выучила наизусть, плакала, целовала…
А ему сказала:
– Дай слово, что не будешь писать о моем инсульте. У нас все хорошо. Всегда. Понимаешь?
– Но надо же как-то объяснить, почему не ты пишешь ответ.
– Напиши, что с возрастом у меня стал очень неразборчивый почерк. Пожалуйста, Ипполит, пообещай мне…
Он обещал.
И полетели в обе стороны письма. «Полетели» – громко сказано. Они где-то застревали, приходили вскрытые и неаккуратно заклеенные, иногда, с большими перерывами, сразу два или три письма. Хотя какие в них могли быть секреты… Нора присылала фотографии свои, мужа, сыновей – настоящие американцы, каждый с улыбкой в тридцать два белоснежных зуба. Звала родителей к себе, насовсем.
Но с Зиной случился второй инсульт, а Ипполит в письмах отвечал: «Спасибо, доченька. Из меня плохой садовник, но даже я знаю: старые деревья не пересаживают». Почему-то он не мог эту взрослую женщину на фотографии назвать Бельчонком.
А потом случилось то, что случилось. Застрявший с войны осколок как-то неудачно сместился. Сначала отнялись ноги, потом любое движение становилось все более и более затрудненным. Письма Норе стал писать Руслан.
***
В аэропорту Нора взяла такси.
– К главному входу на Старый Базар, пожалуйста.
Странно было говорить по-русски, странно слышать вокруг себя русскую речь… Город она не узнавала, поэтому откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Нахлынуло все то, о чем не писала в письмах.
Ганс сдержал слово и довез ее до Парижа. По дороге было много страшного, много смертей и крови, а оккупированный Париж поразил совершенно другой войной. Бабушки с вязанием в руках на стульчиках в саду Пале-Рояль, рыболовы на набережной Сены. У дам в моде – круглые солнцезащитные очки в белой оправе, велосипедные прогулки, бутоньерки и немецкие офицеры.
Профессор, друг Ганса – умер за две недели до их приезда. Ганс заплатил вдове большую сумму денег, чтобы она оставила Нору у себя. Этого хватило бы на год очень безбедной жизни. Вдова кивала головой, вздыхала, терла платочком глаза, а как только Ганс уехал, выгнала Нору на улицу, сказав, что не намерена терпеть у себя в доме «большевистскую заразу». В полном соответствии с плакатами на улицах: «Защитим Францию от большевизма».
Приютил Нору консьерж дома напротив. Он же помог найти работу в столовой для немецких солдат. Там Нора узнала другой Париж. Который боролся и сопротивлялся. В августе 44-го она была вместе с этим, другим Парижем, когда он вышел на баррикады.
Но какое это имело значение, когда вдова профессора скривила презрительно губы и пальцем указала на нее группе молодых людей:
– Вон та девица спала с немецким майором.
Раздался свист, крики:
– Лови бошевскую проститутку, раздевай, брей голову…
Она побежала, они следом. Число «загонщиков» возрастало, они легко могли бы догнать ее, но не хотели, чтобы все закончилось слишком быстро. Она поняла это и побежала к Сене, надеясь оборвать эту гонку раз и навсегда. Крики за спиной вдруг стихли: дорогу толпе преградил молодой американский лейтенант на мотоцикле.
Майкл посадил Нору в коляску мотоцикла и забрал девичье сердце, взамен расставшись со своим. Он увез ее в Америку, они поженились, хотя семья была не в восторге от русской невестки, а когда маккартизм набрал силу, потребовала, чтобы Майкл развелся.
Майкл отказался, заплатив за упрямство потерей наследства, перешедшего к младшему брату.
Они оба работали, растили сыновей, Майкл сумел открыть небольшую юридическую контору… Каждый год, в мамин день рождения, она писала письма в Россию, но Майкл уговаривал не отправлять их, убеждая, что, если семья ее жива, у них могут быть неприятности, вызванные письмами из-за границы. О том, какими именно эти неприятности бывают – она знала.
Но однажды все-таки пришло время, когда Майкл сказал:
– Пожалуй, можно попробовать. Напиши.
Ответ пришел через полтора года. О чем-то в письмах не договаривали, но она знала главное: живы.
А когда и у отца стал неразборчивым почерк, и начал писать Руслан, твердо решила: поедет. Майкл и сыновья отговаривали. Твердили:
– Тебя могут не выпустить обратно.
Она вздыхала:
– Значит, судьба.
И упорно собирала документы, ездила в посольство, добиваясь разрешения.
***
Резкий звонок в дверь. Как странно, оказывается, он все-таки заснул. И уже утро. Или даже день? Слышно, как Руслан пошел открывать.
Это невозможно. Этот голос он узнает из тысячи других, но этого все равно не может быть. И все-таки:
– Мама!
С Зиночкиной кровати донесся шепот:
– Нора, – и вздох облегчения.
Нора подошла к нему, села рядом, взяла пожелтевшую, исхудавшую руку в свою:
– Папа, мамы больше нет. Я не успела.
– Не плачь, Бельчонок. Ты успела. Мама очень ждала тебя, и, дождавшись, ушла со спокойной душой. Не беспокойся, я не оставлю ее одну. Догоню, и мы будем вместе. Поцелуй Руслана, я уже не успеваю.
Он произнес это очень четко, разборчиво и закрыл глаза.
***
Девчонка в розовом ситцевом платьице с длинными тонкими косицами выбежала со двора и ворвалась в комнату с криком:
– Мам! Я видела: из окна Поповых вылетело два облачка один за другим. Вот прямо сейчас. Такие легкие, прозрачные.
– Тебе показалось.
Мама со вздохом отвернулась от дочки, шепнула:
– Отмучились.
И, перекрестившись, добавила:
– Прими, Господи, их души.
Как живете, господа?
1
– Полина, вас к телефону, – начальница поджала тонкие губы, демонстрируя неодобрение.
Девчушка с копной рыжих кудряшек на голове, одергивая коротенькое платьице, подскочила к телефону. Зашептала в трубку, прикрывая ладошкой микрофон:
– Люся? Подожди, перезвоню.
Пару минут, словно нахохлившийся воробышек, посидела за слишком большим для нее письменным столом, переложила с места на место несколько бумажек и, выскользнув за дверь с табличкой «Отдел кадров», стремглав понеслась к телефону-автомату, висевшему у входа в НИИ
– Люсь, я же просила не звонить на работу. Опять Аделаида выговаривать будет.
– Не сердись, Полька, плохо мне.
– Что на этот раз?
– Залетела я, Полька, – в трубке раздались звуки, подозрительно напоминающие всхлипывания.
– Ничего себе, вот так сходила в поход, – Полина поежилась, пытаясь уложить в голове услышанное. – Сереге сказала?
– Говорит: «Давай поженимся».
– Ну? И что тогда?
– Некрасивый он.
– Люсь, ты меня прости, это глупо. Мама всегда повторяет: «С лица воду не пить».
– Ну да… Твоя мама себе вон какого красавца отхватила. Весь поселок завидует.
Девчонки помолчали.
– Что ты понимаешь, – вздохнула Полина, – красивый бабник – чужой муж. Оно тебе надо?
Аделаида Марковна, пристроив на работу дочку бывшей соседки, следила не только за тем, как худенькая сероглазая вчерашняя школьница справляется со служебными обязанностями, но и наставляла: в жизни есть многое, о чем девчонка с рабочей окраины не подозревает. Хочешь жить по-другому, не так, как мама с папой – для начала получи образование.
Вот и сейчас, укоризненно наблюдая, как молодая сотрудница протискивается в щелочку двери, не преминула заметить:
– Вам, Полина, в свободное время надо готовиться в техникум поступать, а не по улицам бегать.
– Да, Аделаида Марковна, я готовлюсь, – покорно кивнула Поля.
Выросла Поля на городской окраине, в небольшом домике с подслеповатыми окнами, вечно протекающей крышей и водопроводной колонкой на улице. Отец, широкоплечий красавец с пышным русым чубом, ресницами в пол-лица и ясными серыми глазами заботой о хозяйстве себя не утруждал. Бабушка, мама и она, Поля, изо всех сил тянули на себе не только огород и мелкую живность, но и непрерывный ремонт дома, пьяные загулы и бесконечные похождения отца то уходящего из семьи, то возвращающегося к безропотно ожидающей жене.
С детских лет Поля жалела маму, но мечтала совсем о другой жизни. Аделаида Марковна могла сколько угодно говорить о необходимости учиться; сама она вырвалась с окраины, выйдя замуж за немолодого вдовца, который и учиться на вечернее отделение ее пристроил, и с устройством на работу после института помог. Поля хотела того же. Ей не нужны ровесники-мальчишки, живущие по соседству, которые будут напиваться так же, как их родители; она мечтала о положительном, интеллигентном мужчине, который, словно принц из сказки, решит все ее проблемы. Научно-исследовательский институт, куда Полину по знакомству приняли на работу, был верным шансом: с точки зрения Поли, «положительных и интеллигентных» здесь хватало.
2
Павел стеснялся своей субтильной фигуры при слишком высоком росте, длинных рук, сутулой спины, и ни в какую любовь с первого взгляда не верил. Тем невероятнее было то, что обрушилось на него словно стихийное бедствие.
Толпа студентов не ворвалась, а буквально «ввинтилась» в узкую дверь троллейбуса, мгновенно заполнив салон. Высокий парнишка в черной водолазке на весь троллейбус хвастался удачей: купил пластиночку за 60 копеек с песнями Мирей Матье. Сыпались иностранные названия песен, имена Азнавура, Синатры … То, что Павлу эти имена ни о чем не говорили, почему-то раздражало. Но когда девушка, стоящая рядом, тихонько, едва шевеля губами, напела: «Жетэмэ, жетэмэ, жетэмэ, жетэмэ!», – Павел с удивлением узнал мелодию, которую совсем недавно слышал в понравившемся ему фильме «Городской романс».
Возле дверей образовалась давка, девушку с прямой челкой над веселыми карими глазами прижали к Павлу так, что перехватило дыхание. Она не уступала ему ростом; пухлые, чуть тронутые помадой губы очутились настолько близко, что невозможно было удержаться от поцелуя.
Павел никогда так не вел себя с незнакомыми девушками. Это было наваждение, от которого он очнулся лишь у себя в комнате. Девушка спала на боку, поджав ноги в коленках и доверчиво положив голову ему на грудь. Разметавшиеся волосы щекотали подбородок, а он боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть сказку.
Павел не знал и боялся задумываться о том, почему Аня согласилась пойти к нему, и вообще, что это было… Ему все время хотелось ее фотографировать. Когда на нее падал солнечный свет, пробивавшийся сквозь давно немытые окна, от лица с монгольскими скулами шло слабое свечение; когда текли по лицу и телу струйки воды в душе, кожа казалась прозрачно-матовой и соперничала с нежными розовыми лепестками. Она улыбалась, размахивала руками, оживленно что-то рассказывала, замирала, слушая своего Синатру, пластинку с песнями которого принесла в первый же вечер, и в каждое мгновение становилась другой, еще непостижимее чем минуту назад. У нее был только один недостаток: она не любила фотографироваться, смеялась:
– Найди рукам другое применение, – и он откладывал аппарат.
Когда Аня уходила, Павел закрывался в ванной, включал красный фонарь и печатал фотографии. Камера у него была довольно примитивная, но он был профессионалом и знал, какие чудеса можно творить с помощью выдержки и диафрагмы.
Однажды Павел сфотографировал ее спящую. Теплый нагой комочек, свернувшийся калачиком, с двумя ладошками под щекой, озаренный светом ночника. Почему она рассердилась? Разорвала фотографию и ушла. Он-то знал, что это была самая лучшая фотография из всех, которые он до сих делал. Та самая профессиональная удача, которая даже к избранным приходит нечасто. А он всего лишь простой фотограф, не гений, ему лишь случайно повезло…
Нет, она не для него – этот экзотический цветок. Зачем обманывать себя? Слишком она ярка, слишком красива эта будущая звезда журналистики.
– But the dream was too much for you to hold1, – пропел напоследок Синатра с пластинки.
Павел жил, стараясь не вспоминать руки и тело той, чьи фотографии уничтожил. Твердил про себя: «Жизнь – будни, а не ежедневные праздники, нельзя хотеть невозможного».
Вот девчоночка из отдела кадров на него посматривает. Почему бы и нет? И плевать, что большая разница в возрасте. У него есть свои плюсы: от родителей осталась квартира в центре города, а для юной любительницы красоты это что-то да значит…
Павел улыбнулся, вспомнив, знакомство с Полиной. Несколько человек из института послали в подшефный колхоз: подготовить помещение для заезда сотрудников. Барак есть барак, что там готовить? Другие женщины пару раз взмахнули тряпкой и успокоились, а эта пигалица, присев на корточки, так старательно соскабливала цемент с пола в умывальнике, что, можно подумать, собиралась прожить в этом умывальнике всю жизнь.
– Хватит уже, – не выдержал Павел. Хотелось быстрее закончить все и уехать в город, воспользоваться образовавшимся свободным временем.
Девчоночка подняла голову, тыльной стороной ладошки откинула рыжие кудри с потного лба и удивленно взглянула серыми глазами:
– Так ведь некрасиво, а здесь люди жить будут.
– Ну, если ты так заботишься о красоте, ладно, давай вместе, – Павел наклонился, чтобы взять скребок, и они стукнулись лбами.
– Вот так познакомились…
Как-то сразу они почувствовали: каждый может дать другому то, чего ему не хватает. Не так много, но и не мало. Почти сразу родила Поля двух мальчишек – погодков, со свойственной ей тщательностью занялась превращением холостяцкой квартиры Павла в уютный дом. Она умела делать чудеса из ничего: из разбитой тарелки получался эксклюзивный горшок для цветов, из лоскутов – абажур и занавески на кухню, из детских ползунков – замечательный жираф, с которым мальчишки не хотели расставаться. Вот только на техникум махнула рукой: стало не до учебы. Павел в свободное время занимался фотографией, посылал свои работы в журналы, иногда их печатали, и тогда Полина гордилась мужем.





