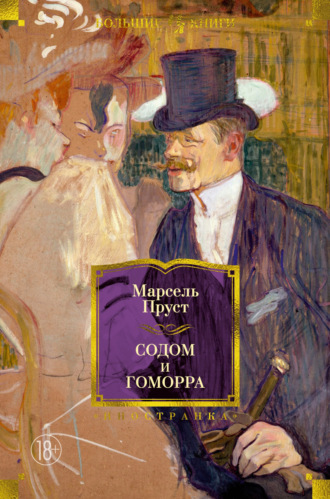
Марсель Пруст
Содом и Гоморра
Люблю на свете только Хлою,
Она прекрасней всех, не скрою,
Но право, я ее не стою.
Значит ли это, что в начале жизни они обладали склонностью, которая в дальнейшем исчезла, как исчезают детские белокурые волосы, превращаясь в черные как смоль? Кто знает, может быть, фотографии женщин – это начало лицемерия, а кроме того, начало отвращения, которым они проникаются к другим, наделенным тем же пристрастием? Но именно для одиночек лицемерие особенно мучительно. Быть может, даже примера другого племени, евреев, недостаточно будет, чтобы объяснить, как мало влияет на них воспитание и как ловко удается им вернуться к страсти, овладевающей ими так же беспощадно, как тяга к самоубийству, которая возвращается к сумасшедшему, как его ни охраняй, и чуть только его спасли из реки, где он топился, помогает ему отравиться, добыть револьвер и тому подобное; и мало того, что людям другого племени непонятны, невообразимы, ненавистны радости, жизненно необходимые этой страсти, – вдобавок посторонним внушают ужас нередкие опасности и постоянный стыд тех, кто ею одержим. В тот день, когда они чувствуют, что не в силах больше ни обманывать окружающих, ни обманываться сами, они переезжают в деревню и начинают избегать себе подобных (которые, по их представлениям, немногочисленны) – из ужаса перед противоестественностью или из страха искушения, а заодно сторонятся и всего остального человечества – от стыда. Им никогда не удается достичь истинной зрелости, время от времени они впадают в меланхолию и вот как-нибудь в воскресенье, в безлунный вечер, идут прогуляться по дороге до перепутья, а там их поджидает какой-нибудь друг детства, обитатель соседней усадьбы, хотя до сих пор они и словом не перемолвились. И так ничего и не сказав друг другу, они возобновляют в темноте на траве прежние игры. По будням они навещают друг друга, болтают о том о сем, не намекая на случившееся, точь-в-точь как будто ничего такого не делали и не собираются повторить, только в их отношениях проскальзывает какая-то холодность, какая-то ирония, раздражительность, обида или даже злоба. Потом сосед надолго отправляется в трудное путешествие верхом, штурмует горные кручи на спине мула, спит в снегу; его друг, полагающий, что его собственный порок – результат слабохарактерности, домоседства, застенчивости, понимает, что друг его изживет свой порок, избавится от него на высоте многих тысяч метров над уровнем моря. И в самом деле, этот друг женится. Однако покинутый не исцеляется (хотя мы увидим, что иногда наклонности, противоречащие обычным, оказываются исцелимы). Он требует, чтобы рассыльный молочника по утрам передавал ему сметану на кухне из рук в руки, а по вечерам, когда, желания слишком его донимают, блуждает, пока не представится случай вывести на верную дорогу пьяного или оправить куртку слепому. Конечно, иногда обладатели извращенных наклонностей вроде бы меняются, в их привычках больше не проглядывают признаки так называемого порока, им присущего; но ничто не исчезает: припрятанная драгоценность отыскивается; если больной стал меньше мочиться, это значит, что он больше потеет, но выделение жидкости продолжается. Однажды наш гомосексуал теряет юного родственника, и по его безутешной скорби вы понимаете, что обычные его влечения преобразились в любовь к этому юноше, любовь, быть может, чистую, для которой уважение важнее обладания: его влечения просто-напросто перечислились в эту любовь, как в чьем-нибудь бюджете перечисляются деньги из одной статьи расходов в другую, ничего не меняя в общем балансе. Бывает, что у больного приступ крапивницы ненадолго вытесняет обычные недомогания; так любовь к юноше-родственнику вытесняет на время, посредством метастазиса[21], прежние привычки, но рано или поздно они вновь вернутся на место хвори, которая их временно заменила собой, а потом прошла.
Тем временем вернулся сосед нашего одиночки, теперь он женат; в конце концов одиночке приходится позвать молодоженов в гости, и, когда он видит, как хороша собой юная новобрачная, как нежен с ней муж, ему становится стыдно за прошлое. Она уже в интересном положении, ей нужно вернуться домой пораньше, а муж остается; потом, собравшись уходить, он просит друга немного его проводить, тот сперва ничего не подозревает, но на перепутье обнаруживает, что оказался на траве в объятиях альпиниста и будущего отца, и все это без единого слова. И встречи возобновляются, но в один прекрасный день приезжает и поселяется неподалеку родственник молодой женщины, и теперь муж всегда гуляет с ним. Причем когда покинутый приезжает и пытается вызвать его на разговор, муж отталкивает его с негодованием, по которому наш одиночка, будь он тактичнее, угадал бы, что внушает отвращение. Однако позже является незнакомец, посланный неверным соседом; покинутый очень занят, не может его принять, и лишь позже начинает понимать, зачем приезжал тот человек.
И вот он тоскует в одиночестве. Всех удовольствий у него – съездить на курорт неподалеку и там задать кое-какие вопросы одному железнодорожнику. Но тот получил повышение, и его переводят на другой конец Франции; теперь наш одиночка не сможет узнавать у него расписание поездов и цены на билеты в первом классе; прежде чем вернуться в свою башню и мечтать, как Гризельда[22], он задерживается на пляже, словно причудливая Андромеда[23], которую не приплывет освобождать никакой аргонавт, словно бесплодная медуза, обреченная погибать на песке, или мается на перроне в ожидании поезда, бросая на толпу пассажиров взгляды, с виду равнодушные, презрительные или рассеянные; но, подобно искоркам света, которыми украшают себя некоторые насекомые, чтобы привлечь сородичей, или нектару, который источают иные цветы, чтобы приманить насекомых, способных их оплодотворить, взгляды эти не обманут того редкостного и, в сущности, неуловимого любителя необычной радости, когда она ему предлагается, того собрата, с кем наш специалист мог бы поговорить на своем особом языке; более того, этот язык, пожалуй, заинтересует какого-нибудь голодранца, болтающегося на перроне, но только ради корысти – так в безлюдной аудитории Коллеж де Франс на лекцию по санскриту собираются слушатели, но пришли они только погреться[24]. Медуза! Орхидея! В Бальбеке, ведомый исключительно инстинктом, я испытывал к медузе отвращение, но когда мне удавалось взглянуть на нее, как Мишле[25], с точки зрения естествознания и эстетики, я видел лазурную гирлянду. Ни дать ни взять лиловые морские орхидеи, отороченные прозрачным бархатом лепестков! Подобно множеству созданий животного и растительного мира, подобно растению, что производит ваниль, но мужской и женский орган у него разделены перегородкой, так что оно остается бесплодным, пока колибри или особые маленькие пчелы не перенесут пыльцу с одного на другой или пока человек не оплодотворит их искусственно (оплодотворение тут следует понимать в духовном смысле, потому что физически союз мужчины с мужчиной бесплоден, но в какой-то мере важно, чтобы человек мог обрести единственное наслаждение, которое ему дано испытать, и чтобы «каждое создание» могло подарить кому-нибудь «свою мелодию, свой жар, свой аромат»)[26], так вот, г-н де Шарлюс, подобно им всем, принадлежал к тем мужчинам, кого, несмотря на их многочисленность, можно назвать исключениями, потому что насыщение их сексуальных нужд зависит от совпадения слишком многих условий, да и условия эти слишком редко встречаются. Такие люди, как г-н де Шарлюс, обречены на компромиссы, которые будут возникать один за другим, и нетрудно предвидеть заранее, что им надо будет смиряться с полууступками, потому что иначе наслаждения не достичь; и без того взаимная любовь у большинства смертных связана с огромными, иногда неодолимыми помехами, но этим людям она, кроме того, готовит еще и совершенно особые препятствия; то, что всем дается очень редко, для них почти невозможно, и если им выпадет воистину счастливая встреча (или чутье подскажет им, что это возможно), то они будут куда счастливее нормальных влюбленных и вкусят необыкновенное, исключительное блаженство, от которого немыслимо отказаться. Вражда Монтекки и Капулетти ничто по сравнению со всевозможными препятствиями, которые пришлось преодолевать природе, и совершенно особыми исключениями из правил, на которые приходилось ей идти, пока она подстраивала случайности, приводящие к любви, сами по себе маловероятные; лишь после всех этих усилий бывший жилетник, собиравшийся спокойно уйти к себе в контору, пошатнулся, зачарованный, при виде пузатого пятидесятилетнего незнакомца; эти Ромео и Джульетта были вправе поверить, что их любовь – не минутный каприз, а воистину веление судьбы, предначертанное гармонией их характеров, и не только их, но и их предков, вплоть до самых далеких пращуров, а потому человек, с которым они соединятся, принадлежал им еще до рождения и привлек их с помощью силы, сравнимой с той, что правит мирами, где мы прожили наши предыдущие жизни. Г-н де Шарлюс отвлек меня, когда я смотрел, принесет ли шмель орхидее пыльцу, которую она ждала так долго и только по чистой случайности могла дождаться – случайности настолько невероятной, что она могла бы считаться настоящим чудом. Но то, что я сейчас наблюдал, тоже было чудом – примерно в том же роде и не менее удивительным. Как только я взглянул на встречу этих двоих теми же глазами, все в ней показалось мне прекрасным. Каких только хитростей не изобрела природа, чтобы заставить насекомых заняться скрещиванием цветов, которые без них остались бы бесплодными, потому что мужской цветок расположен слишком далеко от женского, или чтобы, в тех случаях, когда опылением занимается ветер, помочь ему сдуть пыльцу с мужского цветка, а женскому цветку – подхватить ее на лету; при этом природа еще и избавляет цветок-женщину от обязанности источать нектар (ведь приманивать на него насекомых уже не нужно), и от заботы о заманчивом для насекомых блеске венчика, а кроме того, принуждая цветок выделять жидкость, предохраняющую его от любой чужой пыльцы, следит, чтобы он сохранил себя для той, которая нужна для оплодотворения именно ему, – но все эти немыслимые хитрости природы казались мне не более волшебными, чем существование особой разновидности мужчин-гомосексуалов, чье назначение – дарить радости любви постаревшим мужчинам; такую разновидность влекут не любые мужчины, а только те, кто намного старше их; этим влечением управляют законы совпадений и соответствий, близкие тем, что ведают скрещиванием таких гетеростильных триморфных цветков, как lythrum salicaria[27]. Жюпьен только что явил мне пример этой разновидности, впрочем, не самый поразительный из тех, на которые может наткнуться, пускай не слишком часто, любой собиратель человеческого гербария, любой исследователь ботаники нравов, когда ему предстанет хрупкий юноша, ждущий авансов от крепкого пузатого господина лет пятидесяти и равнодушный к знакам внимания со стороны других юношей, точь-в-точь короткостолбиковые цветы-гермафродиты primula veris (первоцвета весеннего), которые бесплодны, пока их опыляют другие короткостолбиковые primula veris, но с радостью принимают пыльцу от длинностолбиковых первоцветов. Лишь впоследствии я разобрался, что же такое г-н де Шарлюс: для него были возможны разные способы соединения с другими людьми, своим многообразием, мимолетностью вплоть до полной неуловимости, а главное, отсутствием контакта между двумя участниками подчас еще больше напоминавшие о тех цветах в саду, что опыляются от соседнего цветка, никогда до него не дотрагиваясь. Некоторых людей ему было довольно зазвать к себе и несколько часов продержать под властью своих речей – и влечение, вспыхнувшее при первом знакомстве, утолялось. Соединение происходило посредством простых слов, так же просто, как у каких-нибудь инфузорий. Иногда, как это у него получилось со мной в тот вечер, когда он затребовал меня к себе после ужина у Германтов, утоление происходило благодаря яростной отповеди, которую барон швырял в лицо гостю: так некоторые цветы, снабженные пружинкой, орошают на расстоянии ошарашенное насекомое, невольно навлекшее на себя эту немилость. Г-н де Шарлюс, из угнетенного превращаясь в угнетателя, сразу же избавлялся от своей тревоги, успокаивался и прогонял гостя, который уже не казался ему желанным. В сущности, причина гомосексуальности кроется в том, что такой человек подходит к женщине слишком близко для того, чтобы установить с ней разумные отношения, и в результате подпадает под высший закон, в силу которого множество цветов-гермафродитов остаются неопыленными; иными словами, человек этот обречен на бесплодие самооплодотворения. Правда, в поисках мужской особи люди с таким отклонением часто довольствуются таким же, как они сами, женоподобным существом. Им довольно уже и того, что существо это не принадлежит к женскому полу, хотя они и сами носят в себе зародыш женщины, который, правда, не умеют вызвать к жизни; это в них общее с многими растениями-гермафродитами и даже с некоторыми животными-гермафродитами, например улитками: те не умеют оплодотворять сами себя, но их могут оплодотворить другие гермафродиты. Те, кого влечет к людям их пола, охотно цепляются за Древний Восток или Золотой век Греции, но в сущности, они могли бы заглянуть еще дальше, в те «испытательные» эпохи, когда не существовало еще ни двудомных растений, ни однополых животных, во времена первобытного гермафродитизма, следы которого дошли до нас в виде рудиментарных мужских органов в женской анатомии и женских – в мужской. Мимика Жюпьена и г-на де Шарлюса, поначалу для меня непонятная, показалась мне такой же примечательной, как искусительные знаки, которые, если верить Дарвину, подают насекомым не одни только сложноцветные, вздымающие мелкие цветочки своих головок, чтобы их было видно издали, – бывает, например, что и гетеростильное растение выворачивает и изгибает свои тычинки, проторяя проход насекомым, или окатывает их влагой, или их просто зазывают во двор ароматы нектара и сияние венчиков. С этого дня г-ну де Шарлюсу пришлось изменить время своих визитов к г-же де Вильпаризи, и не потому, что он не мог встречаться с Жюпьеном в другом месте (это было бы даже удобнее); дело в том, что для него, как для меня, послеполуденное солнце и цветущий куст были наверняка связаны с воспоминанием о Жюпьене. Кстати, г-н де Шарлюс не ограничился тем, что отрекомендовал семью Жюпьена г-же де Вильпаризи, герцогине Германтской и прочим блистательным дамам, которые тут же стали прилежными заказчицами юной вышивальщицы, тем более что на всех не пожелавших или просто не поторопившихся явиться к ней с заказами барон тут же обрушил беспощадные репрессии, не то для острастки, не то из ярости, ведь они покусились на меры, упрочивавшие его господство; Жюпьена он стал пристраивать на все более доходные должности, а потом и вообще взял его к себе секретарем на условиях, к которым мы еще вернемся. «Эх, везет же этому Жюпьену», – говорила Франсуаза, склонная то приуменьшать, то преувеличивать благодеяния смотря по тому, распространялись ли они на нее или на других. Хотя в этом случае ей не было нужды в преувеличениях, да и зависти она не испытывала, потому что искренне любила Жюпьена. «Какой барон добрый, – добавляла она, – такой приличный, такой благочестивый, такой порядочный! Была бы у меня дочь на выданье да была бы я из богатых, отдала бы ее за барона с закрытыми глазами». – «Постойте, Франсуаза, – мягко возражала мама, – сколько же мужей было бы у вашей дочки? Помните, вы уже обещали ее Жюпьену». – «Ну конечно, – отвечала Франсуаза, – Жюпьен тоже был бы прекрасным мужем. Мало ли что одни богатые, а другие бедные, для природы это все едино. Барон и Жюпьен – одного сорта люди».
Впрочем, в те времена, сделав это первое открытие, я сильно преувеличивал избирательность и исключительность их союза. Разумеется, каждый человек, подобный г-ну де Шарлюсу, – создание необыкновенное, ведь на какие бы уступки ни толкали его жизненные обстоятельства, он их отвергает, поскольку ищет главным образом любви мужчины другой породы, то есть такого, который любит женщин, а значит, его полюбить не сможет; вопреки тому, что я подумал тогда во дворе, видя, как Жюпьен кружит вокруг г-на де Шарлюса, будто орхидея, заигрывающая со шмелем, подобные исключительные, достойные жалости создания весьма многочисленны, – по причине, которая прояснится только к концу книги, как будет видно из дальнейшего изложения, – и сами жалуются скорее на то, что их слишком много, а не слишком мало. Потому что два ангела, которые пришли к воротам Содома узнать, точно ли обитатели, как сказано в Книге Бытия, поступают так, каков вопль на них, восходящий к Всевышнему, были выбраны Господом весьма неудачно (хотя этому можно только порадоваться): лучше бы он доверил это поручение содомиту[28]. Уж его-то не тронули бы оправдания вроде «я отец шести детей, у меня две любовницы»; он не опустил бы свой пламенный меч, не смягчил санкции[29]. Он бы возразил: «Да – и твоя жена терзается от ревности. И даже если ты этих женщин нашел не в Гоморре, все равно ты проводишь ночи с пастухами Хеврона»[30]. И немедленно прогнал бы его назад, в город, который вот-вот подлежал истреблению серным и огненным дождем[31]. Однако всем тайным содомитам позволили удрать, и в соляные столпы они не превратились, даром что при виде каждого мальчика оборачивались, как жена Лота. Так и вышло, что у них оказалась масса последователей, которым этот жест так же привычен, как женщинам легкого поведения, когда они притворяются, будто разглядывают туфли в витрине, но оборачиваются, как только мимо идет студент. Эти потомки содомитов, многочисленные настолько, что можно отнести к ним стих из Бытия: «если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет»[32], расселились по всей земле, получили доступ ко всем профессиям и вступают в самые закрытые клубы; если содомита не приняли в такой клуб, то бо́льшая часть черных шаров была наверняка брошена другими содомитами; но они усердно осуждают содомию, унаследовав лживость, благодаря которой их предкам удалось покинуть про́клятый город. Не исключено, что когда-нибудь они туда вернутся. Во всех странах они, конечно, представляют собой что-то вроде восточного землячества – культурного, музыкального, злоязычного, вместе очаровательного и несносного. Они будут представлены подробнее на последующих страницах этой книги, но хотелось бы заранее предостеречь против опасного плана, состоящего в том, чтобы по примеру того, как вдохновенно создавалось сионистское движение, организовать движение содомитов и заново отстроить Содом. Дело в том, что едва содомиты вступят в этот город, как тут же его и покинут, чтобы никто не подумал, что они оттуда, и женятся, и заведут любовниц в других городах, а между тем найдут себе и там развлечения по вкусу. В Содом они будут отправляться только в дни крайней необходимости, когда их собственный город опустеет, в моменты, когда голод выгоняет волка из лесу, – одним словом, все будет происходить как в Лондоне, Берлине, Риме, Петрограде или Париже.
Как бы то ни было, в тот день, перед визитом к герцогине, я не заглядывал так далеко и очень огорчился, что из-за воссоединения Жюпьена с Шарлюсом пропустил, быть может, опыление цветка шмелем.
Часть вторая
Глава первая
Г-н де Шарлюс в свете. Врач. Обычное выражение лица г-жи де Вогубер. Г-жа д’Арпажон, фонтан Юбера Робера и веселье великого князя Владимира. Г-жа д’Амонкур де Ситри, г-жа де Сент-Эверт и т. д. Занятный разговор Сванна и принца Германтского. Телефонный разговор с Альбертиной. Визиты в ожидании моей второй и последней поездки в Бальбек. Прибытие в Бальбек. Перебои сердца.
Я не спешил на вечер к Германтам, не уверенный, что меня пригласили, поэтому праздно ждал снаружи, но летний день, кажется, торопился не больше моего и кончаться не хотел. Шел уже десятый час, а он по-прежнему окрашивал Луксорский обелиск на площади Согласия в цвет розовой нуги. Потом оттенок изменился и обелиск стал металлическим, отчего теперь выглядел не только внушительнее, но и тоньше; в нем как будто появилась гибкость. Нетрудно было вообразить, что его можно погнуть, что эту драгоценность уже слегка искорежили. Луна стояла в небе, как четверть бережно очищенного и все-таки слегка надкушенного апельсина. Но вскоре ее матерьялу предстояло превратиться в самое прочное золото. Позади нее сжалась в комок одна жалкая звездочка – она будет служить одинокой луне единственной спутницей, а луна встанет на защиту подруги и смело поплывет вперед, потрясая своим широким и великолепным золотым полумесяцем, словно непобедимым оружием, словно каким-то восточным символом.
Перед особняком принцессы Германтской я встретил герцога де Шательро; я уже не помнил, что еще полчаса назад меня терзал страх явиться незваным, – впрочем, этот страх очень скоро вернулся. Начинаешь тревожиться, потом отвлечешься и надолго забудешь о своей тревоге, но потом она возвращается, подчас долгое время спустя после момента опасности. Я поздоровался с молодым герцогом и вступил в особняк. Но здесь следует отметить одно незначительное обстоятельство, из которого станет понятно дальнейшее.
В тот вечер, как и в предыдущие, один человек много думал о герцоге де Шательро, хотя понятия не имел, кто он такой: это был привратник принцессы Германтской (его дело было выкрикивать имена гостей). Г-н де Шательро отнюдь не принадлежал к близким друзьям принцессы – он был просто один из кузенов, и его впервые принимали у нее в салоне. Его родители рассорились с ней за десять лет до того, помирились две недели назад, в этот вечер им по какому-то делу пришлось отлучиться из Парижа, и представлять их семью они поручили сыну. Однако за несколько дней до приема привратник принцессы Германтской встретил на Елисейских Полях молодого человека, очаровательного, на его взгляд, но кто он такой, было непонятно. Правда, молодой человек оказался и любезным, и щедрым, тут ничего не скажешь. Все знаки расположения, которые привратник, как ему казалось, должен был оказать этому столь юному господину, он, напротив того, получил от него сам. Но г-н де Шательро был не только неосторожен, но и опаслив; он решился в тот день не раскрывать своего инкогнито, поскольку не знал, с кем имеет дело, но в каком бы он был ужасе (хотя бояться было нечего), если бы знал! Он ограничился тем, что притворился англичанином, и на все пылкие расспросы привратника, желавшего еще повстречаться с тем, кому он был обязан таким наслаждением и такой щедростью, твердил, пока они следовали по всей авеню Габриэль: «I do not speak french».
Герцог Германтский, несмотря ни на что, не забывал, с кем его кузен в родстве по материнской линии; он притворялся, будто в салоне принцессы Германтской и Баварской ему чудится дух Курвуазье, но благодаря новшеству, которое больше нигде в этом кругу не встречалось, все тем не менее ценили изобретательность и интеллектуальное превосходство принцессы. Дело в том, что после обеда, перед раутом – важным или не очень – стулья в салоне принцессы Германтской расставлялись таким образом, чтобы гости рассаживались небольшими группами, причем некоторые оказывались спиной друг к другу. Принцесса подсаживалась к той или иной группе, демонстрируя свое светское чутье. Впрочем, она не боялась выбрать и вовлечь в разговор кого-нибудь из другой группы. Например, она обращала внимание г-на Детайя[33] на то, как прекрасна шея г-жи де Вильмур, которая сидела в другой группе и была им видна только со спины, г-н Детай, разумеется, признавал ее правоту, и тогда принцесса, повысив голос, произносила: «Госпожа де Вильмур, наш выдающийся художник господин Детай в восторге от вашей шеи». Г-жа де Вильмур чувствовала, что ее вовлекают в беседу; с ловкостью, приобретенной благодаря верховой езде, она медленно поворачивала свой стул на три четверти круга и, нисколько не беспокоя соседей, оказывалась лицом к принцессе. «Вы незнакомы с господином Детайем?» – спрашивала хозяйка дома, не довольствуясь уместными и сдержанными речами гостьи. «Я не знакома с ним, но знаю его картины», – почтительно отзывалась г-жа де Вильмур, демонстрируя на зависть окружающим готовность к продолжению разговора и такт, а тем временем едва заметно кивая знаменитому художнику, которого, что ни говори, лишь упомянули, а не представили ей по всем правилам. «Идите сюда, господин Детай, – говорила принцесса, – я представлю вас госпоже де Вильмур». Тут эта дама, освобождая место для автора «Сна»[34], пускала в ход не меньше изобретательности, чем до того, когда разворачивала к нему стул. А принцесса придвигала стул для себя; в сущности, она окликнула г-жу де Вильмур только потому, что искала предлог расстаться с первой группой, в которой обычно проводила десять минут, и столько же времени уделить второй. За три четверти часа она успевала таким образом обойти все группы, и всякое перемещение совершалось как будто исключительно по вдохновению и из симпатии, а на самом деле имело целью показать, с какой непосредственностью гранд-дама умеет принимать гостей. Тем временем прибывали те, кого пригласили на вечер, и хозяйка дома садилась поближе к входу – прямая и гордая, осененная почти королевским величием, блистающая ярким от природы взором – между двумя некрасивыми герцогинями и испанской посланницей.
Я стоял в очереди за несколькими гостями, прибывшими до меня. Прямо перед собой я видел принцессу; ее красота осталась для меня, конечно, не единственным воспоминанием об этом вечере. Но чеканное, словно прекрасная медаль, лицо хозяйки дома было так совершенно, что врезалось мне в память. У принцессы было обыкновение при встрече говорить за несколько дней до предстоящего вечера каждому из своих приглашенных: «Вы придете, не правда ли?» с таким видом, словно ей страшно хотелось с ними побеседовать. Но на самом деле говорить с ними ей было не о чем, поэтому, когда они представали перед ней, она лишь прерывала на миг болтовню с двумя герцогинями и посланницей и благодарила их словами: «Как мило, что вы пришли»; причем она не имела в виду, что прийти на ее вечер такая уж любезность со стороны гостя, а скорее желала подчеркнуть собственную любезность; затем она бросала его на произвол судьбы, добавляя: «Вы найдете принца Германтского у входа в сад», так чтобы гость удалился и оставил ее в покое. Некоторым она вообще ничего не говорила, ограничиваясь тем, что являла им свои прекрасные ониксовые глаза, словно гости явились на выставку драгоценных камней.
Как раз до меня в зал вошел герцог де Шательро.
Ему пришлось отвечать на все улыбки и приветственные жесты, долетавшие из гостиной, поэтому он не заметил привратника. Но привратник узнал его с первого взгляда. Миг спустя ему предстояло услышать, кто тот человек, чье имя ему так хотелось узнать. Спрашивая у своего позавчерашнего «англичанина», как о нем доложить, привратник был не просто взволнован – он чувствовал себя нескромным, неделикатным. Ему казалось, что сейчас он объявит всем этим людям (которые, впрочем, ни о чем не подозревали) секрет, который он вызнал, не имея на то никакого права, и теперь выставляет на всеобщее обозрение. Когда он услыхал ответ гостя – «герцог де Шательро», его обуяла такая гордыня, что он на миг онемел. Герцог взглянул на него, узнал, понял, что погиб, а тем временем слуга взял себя в руки и, призвав на помощь свои познания в геральдике, чтобы самому дополнить чересчур скромное представление, проревел с профессиональной зычностью, которую умеряла сокровенная нежность: «Его светлость монсеньор герцог де Шательро!» Тут наступила моя очередь. Уйдя в созерцание хозяйки дома, которая еще меня не видела, я не подумал об ужасной для меня – хотя и по-другому, чем для г-на де Шательро, – обязанности этого привратника, одетого в черное, как палач, и окруженного толпой лакеев в самых что ни на есть нарядных ливреях, крепких парней, готовых схватить чужака и вышвырнуть его за дверь. Привратник спросил мое имя, я машинально назвался – так приговоренный к смерти дает привязать себя к плахе. Он тут же величественно вскинул голову и прежде, чем я успел попросить его объявить меня вполголоса, чтобы пощадить мое самолюбие на случай, если я не приглашен, или самолюбие принцессы Германтской, если приглашен, проорал опасные слоги моего имени громовым голосом, способным обрушить своды особняка.
Знаменитый Гексли (тот, чей племянник занимает сейчас одно из первых мест в мире английской литературы)[35], рассказывает, что одна из его больных не осмеливалась больше бывать в обществе, поскольку часто ей представлялось, будто в кресле, любезно предложенном ей хозяевами дома, уже расположился какой-то старый господин. Она была совершенно уверена, что или гостеприимный жест хозяев, или присутствие старика ей просто мерещатся, ведь не предложат же ей кресло, если в нем уже кто-то сидит. Но когда Гексли, желая ее излечить, настоял, чтобы она опять поехала на званый вечер, ей пришлось испытать мгновения тягостной неуверенности, гадая, в самом ли деле ей любезно указывают на кресло или она, повинуясь галлюцинации, сейчас при всех усядется на колени к господину из плоти и крови. Ее краткие сомнения были мучительны. И все-таки мне пришлось еще тяжелей. Как только в ушах у меня, словно предвестье грядущей катастрофы, раскатился оглушительный звук моего имени, мне пришлось на всякий случай, чтобы меня ни в чем не заподозрили, притвориться, будто я не испытываю ни тени неуверенности, решительно шагнуть вперед и предстать перед принцессой.
Она заметила меня, когда я был уже в нескольких шагах, и – теперь-то уж было ясно, что я стал жертвой чьих-то козней – вместо того, чтобы поздороваться со мной сидя, как с другими гостями, она встала и подошла ко мне. Еще секунда – и у меня камень свалился с души, как у пациентки Гексли, когда она решилась сесть в кресло и оно оказалось свободным, то есть галлюцинацией был именно старый господин. Принцесса с улыбкой протянула мне руку. Она постояла несколько мгновений, лучась великодушием, запечатленным в той строфе Малерба, что заканчивается стихом: «И встанут ангелы, дабы воздать им честь!»[36]
Она извинилась, что герцогиня еще не прибыла, как будто опасаясь, что без нее мне будет скучно. Здороваясь, она взяла меня за руку и с необыкновенным изяществом покружилась на месте, вовлекая меня в вихрь своего вращения. Я почти был готов к тому, что она, как истинная распорядительница котильона, вручит мне трость с набалдашником слоновой кости или часы-браслет. По правде сказать, ничего этого она мне не дала и на этом прервала наш разговор, так его и не начав, словно собравшись танцевать бостон, вдруг принялась вслушиваться в священный квартет Бетховена и боялась нарушить его тончайшие нюансы; по-прежнему сияя от радости меня лицезреть, она лишь указала мне, где искать принца.







