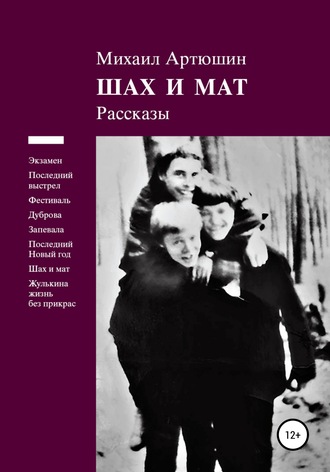
Михаил Артюшин
Шах и мат. Рассказы
– Не ходи к Вере! – затем медленно повернулась к нему лицом, поправляя локон русых волос. «Почему это?» – чуть не сорвалось у него с языка, но Ирина уже произнесла мучительные для него слова: – Замуж она вышла! Еще весной!
Наверно, наступившая пауза была очень длинной. Михаил застыл, соображая, что ему сейчас делать. Идти вперед или назад? Бежать? Куда бежать? Он же шел к Вере. А теперь туда идти незачем! Вера!.. Понятно теперь, почему она не писала! Стало неожиданно очень жарко. Он снял стройотрядовскую куртку.
– Миш, ты чего? – заволновалась Ирина.
Михаил в ответ махнул рукой, повернулся, закинул куртку через плечо и медленно пошел обратно.
Вечером он купил несколько бутылок портвейна и шоколад. Во дворе дома, между двух пятиэтажек, он сидел на скамейке, за деревянным столом, в окружении друзей по двору, до самой темноты, и потом, при свете прожектора, освещавшего площадку с крыши, до поздней ночи играл на гитаре песни, привезенные от костров стройотряда. Вечер был по-летнему теплый, спешить было некуда. Спрятав свои переживания, он пел для друзей, не подавая виду, шутил, лихо пил портвейн, отгоняя от себя навязчиво лезущие в голову мысли о Вере, и прощался с первой любовью. Ближе к ночи он впервые в жизни напился.
* * *
В сентябре весь второй курс стройфака был направлен на картошку. До середины октября Михаил с Борисом бороздили заснеженные совхозные поля в компании трактора-погрузчика, отрывая с погрузчиком заполненные картофелем контейнеры от матушки-земли и высыпая их содержимое в кузова стоящих в очереди автомашин. Полтора месяца жизни на природе, напряженная работа, спартанские условия проживания на нарах, под крышей огромного склада, приютившего на ночлег две сотни девчонок и парней, стали для Михаила спасением от мучавших его переживаний. Степные ветры, веселая атмосфера, царящая каждый вечер, хохот от «соленого» анекдота выносил настежь двери и грозил снести крышу бывшего зернового амбара. Все это вместе с лучшим лекарством от душевных мук под названием «время» постепенно делали свое дело. Сердечная рана медленно-медленно, но затягивалась.
В одно прекрасное утро окрестные поля окончательно покрылись снегом, и факультет вернулся в альма-матер на учебу, оставив овощеводов совхоза один на один с проблемой уборки оставшегося на полях урожая.
* * *
Прочитав расписание лекций, вывешенное огромной белой простыней на стене, напротив гардероба на цокольном этаже главного корпуса, Михаил позвал Бориса:
– Смотри! Высшая математика! Лектор – заведующий кафедрой! Фамилию видишь?!
– Вижу, Мишаня, не слепой!
В течение двух семестров оба друга, сидя на лекциях профессора, усердно конспектировали все, что тот доходчиво и толково доводил до студентов. В отличие от других преподавателей, на лекциях у профессора-моряка не было скучно. Он умел увлечь аудиторию, читал каждую лекцию с увлечением и всегда охотно отвечал на вопросы, в том числе иногда и на отвлеченные от основного предмета. На семинарах у других преподавателей, поменьше рангом, друзья еще усерднее грызли гранит науки, вникая в интегралы, производные и прочие премудрости высшего курса математики.
Учебный год второго курса оканчивался хлопотами по сдаче курсовых работ и зачетов. Последним в графике весенней сессии для четвертой группы стройфака стоял экзамен по высшей математике. Настроение предстоящего летнего отдыха чувствовалось повсюду. Уже пустые аудитории и почти безлюдные бесконечные коридоры горно-металлургической кузницы инженерных кадров напоминали о том, что наступили каникулы. Пора и преподавателям отдохнуть от любимых студентов, да и студентам пора с пользой провести два летних месяца, набраться сил для предстоящего нового учебного года! В фойе уже неделю висел список сформированного на базе стройфака стройотряда. Светло-зеленые стройотрядовские куртки с оранжевыми нашивками, сапоги, рабочие рукавицы сложены в рюкзаки. Гитара на стене, отсвечивая полированной поверхностью солнечные блики, напоминала о будущих вечерах у летних костров. «Скорее бы сдать эту высшую математику!» – повторяли друзья при каждом удобном случае.
И вот наступил судьбоносный день. Группа С-73–4 по одному заходила в аудиторию. Студенты, поздоровавшись с преподавателем, клали зачетные книжки на стол, выбирали экзаменационный билет и рассредоточивались по аудитории, занимая свободные парты.
– Боря! Я пошел! – сказал Михаил, взявшись за ручку двери.
– Ни пуха! – хлопнул его по плечу Борис.
– К черту!
Подойдя к столу, Михаил поздоровался.
– А! Вот и последний из могикан! – неожиданно громко приветствовал его профессор.
Положив на стол зачетку, Михаил подумал: «Причем здесь последний из могикан?!» – и потянулся за лежащим с краю билетом. Но тут профессор неожиданно опередил его движение, прихлопнув выбранный Михаилом билет своей пятерней. Морской якорь на запястье профессорской руки, с двумя заостренными, загнутыми краями, ярко выделялся на коже на фоне манжета белой рубашки. Рука бывшего моряка прижала билеты к зеленому сукну стола, и Михаилу на секунду показалось, что своими темно-синими, жирными линиями якорь всей своей тяжестью намертво придавил разложенные по столу в ряд билеты.
– Ан, нет! Билета я вам не дам! Присаживайтесь вот сюда! – рука профессора оторвалась от стола и, повторяя направление, выбранное синим якорем, указала на первую парту, в двух метрах от профессорского стола.
Михаил растерялся от неожиданности, посмотрел на ребят, сидящих за партами и наблюдающих за этой сценой, повернулся в сторону входной двери и, выдержав секундную паузу, взяв себя в руки, медленно сел на указанное место.
Профессор тем временем взял чистый лист бумаги и что-то начал на нем писать.
Открылась дверь аудитории. Борис, убедившись, что можно заходить, бодрым шагом подошел к экзаменационному столу.
– А! – радости профессора не было предела! – Вот и еще один могиканин!
Ничего не понимающий Борис положил зачетку рядом с зачеткой Михаила и занес руку над билетами, гадая и выбирая билет, как свою судьбу, на ближайшие три часа. Рука профессора тоже зависла над столом, пытаясь наложить вето на белый ряд заветных листков, но в последний момент морской якорь наполовину закрылся манжетой рубашки, и карающая длань опустилась на другой край стола.
– Ладно! Берите билет! – смилостивился он к очередному представителю «племени могикан».
Выбрав билет, Борис прошел мимо Михаила, высоко подняв брови, всей мимикой спрашивая: «Что случилось?!» – Михаил в ответ в отчаянии махнул рукой, мол: «Все! Труба!»
Через пару минут профессор встал и положил перед Михаилом два листа бумаги, сверху до низу исписанные синими чернилами.
– Решишь – будем дальше разговаривать!
От такой несправедливости Михаилу стало тоскливо. «Пятнадцать уравнений! Что делать? – рассуждал он про себя, взвешивая все за и против, – встать и уйти? Но все равно сдать-то когда-нибудь надо! Не бросать же учебу!»
Представив на миг огорченное лицо матери, если он вдруг вернется домой, исключенный из института, подумал: «Два года я готовился к этому экзамену! И все коту под хвост?!» Проснувшаяся в нем злость на эту несправедливость помогла ему сосредоточиться. Решение уравнения он аккуратно записал на чистый лист бумаги и перешел к следующему заданию.
Прошло три часа. Группа сдавала экзамен, и аудитория постепенно пустела. Студенты, по очереди подсаживаясь за стол к экзаменатору, отвечали на вопросы по билетам. Просматривая решения, определяя уровень знаний сидевшего перед ним студента, иногда задавая дополнительные вопросы, профессор выставлял отметки в зачетные книжки. К тому времени Михаил решил все предложенные ему заведующим кафедрой в качестве испытания пятнадцать заданий. Торопиться в его положении смысла не было, он он решил не тянуть кота за хвост, встал из-за парты и протянул через стол исписанные листы бумаги профессору, как бы спрашивая: «Дальше-то что?»
– Ну-ка, посмотрим, что у вас тут, коллега! – заметил профессор.
Просматривая один за другим листы контрольной работы, он жестом пригласил Михаила присесть на стул, стоящий с другой стороны стола. Он видел, что контрольная решена без ошибок. Не выпуская листы из рук, он уже оценивал экзаменуемого студента по внешним признакам как человека. Этот голубоглазый блондин со шрамом на щеке под правым глазом, приехавшей поступать два года назад, еще тогда показался ему лидером бандитской шайки. Слишком уверенно он вел себя тогда в приемной комиссии. Тот самый Чудинов, он до сих пор помнил эту фамилию, видно было, что слушался его безоговорочно! Несколько последующих встреч на улице с этой компанией окончательно убедили его в этом предположении. Даже уверенная поступь, чуть впереди своих спутников, выдавала в нем лидера. За прошедшие два года старая обида и негодование от хулиганского поступка пацана, с прилизанными волосами, злыми, сверкающими глазами и «ножом за пазухой», уже утихли. В приемной комиссии он смотрел его документы. Типичный троечник, с одной пятеркой по физкультуре. Как он умудрился получить «отлично» за вступительное сочинение?
А сейчас ему импонировала реакция этого «главаря» на устроенную им предварительную проверку знаний. Другой бы раскис, а этот собрался, достойно повел себя. Опять видна уверенность в своих действиях. По опыту он знал, что уверенность студента всегда подкреплена только прочным знанием предмета. Он окинул взглядом десяток разложенных на столе зачетных книжек и взглянул на часы. Да, время еще есть! Он любил экзамены за эти минуты торжественности, висящего в воздухе напряжения от ответственности за последствия, наступающие в результате проверки знаний студентов. Он любил эти минуты общения на экзаменах за их непредсказуемость, своеобразную лотерею для студентов, приносящую кому удачу, а кому и разочарование.
С циферблата часов его взгляд соскользнул на запястье, на татуировку со словом «Справедливый».
Некстати и не вовремя пришли на память серые, стремительные линии эсминца, стоящего на рейде в Финском заливе. На минуту задумавшись, он вспомнил себя двадцатитрехлетним.
* * *
Была весна. Катер пришвартовался к причалу, и он, махнув рулевому, легко спрыгнул с борта, не дожидаясь трапа, вслед за матросом, швартовавшим катер к причалу. Десять минут назад он простился со всей командой, с братишками-матросами, с любимым кораблем, стоящим на рейде. Пять лет службы прошли на этом корабле, который стал для него родным домом. Расставаться с ним было очень трудно.
В бескозырке, с разлетающимися за плечами лентами, в черном бушлате, он стоял на набережной Кронштадта, осыпаемый долетавшими до него брызгами разбивающихся о камни волн, сдерживая слезы. «Справедливый», кренясь на волнах, прощально покачивал из стороны в сторону антенными мачтами, прощаясь с ним навсегда.
После Кронштадта Василий поступал на физико-математический факультет Ленинградского университета. Он вспомнил собственные волнения во время сдачи экзаменов. На экзаменах его выручала морская форма, уважение к которой, как уважение к морскому военному флоту, оказывали все преподаватели на вступительных экзаменах.
Очнувшись от воспоминаний, Василий Иванович вздохнул, посмотрел на входную дверь, окинул взглядом аудиторию и подумал: «Наверное, я не прав! Эти парни проявили уважение к предмету. Судя по всему, неплохо подготовились к экзамену, но надо еще проверить, чтобы все было по справедливости».
Эта татуировка якоря эсминца, сделанная в кубрике на «Справедливом», всегда по жизни выручала его, напоминала о морской службе, морском братстве, корабельной дисциплине, где или побеждают, или погибают все вместе. И он всегда по жизни старался поступать так, как научил его в юности «Справедливый».
– Ответьте мне, коллега, вот на такой вопрос! – закончив рассматривать решенные студентом задания, произнес бывший моряк и отложил листы бумаги в сторону.
Михаил приготовился к худшему. Битый час профессор выяснял знание высшей математики сидевшего перед ним студента, задавая вопросы по всем разделам.
Остатки группы, сидевшие в аудитории, притихли. Как рассказывал потом Борис, он тоже загрустил, видя такую предвзятость преподавателя к другу. Он же будет следующим!
Сдавшие экзамен товарищи по группе то и дело открывали дверь, заглядывали, недоумевая, почему так долго профессор терзает Михаила.
Почувствовав, видимо, настроение аудитории и перебор во времени в отношении к неплохо подготовленному студенту, профессор, выслушав очередной ответ Михаила, молча взял в руки зачетную книжку, заполнил строку «математика» оценкой «удовлетворительно», протянул Михаилу и сказал:
– На четверку не тянешь! До свидания! Следующий!
Не веря, что все уже с этой секунды позади, Михаил медленно вышел из аудитории. В коридоре его обступили девчонки и парни из группы:
– Что случилось? Почему он тебя так долго спрашивал?
– Потом расскажу! – пообещал уставший Михаил. – Надо Борьку дождаться!
Через десять минут из аудитории вылетел улыбающийся Борис.
– Ну что? – хором атаковали его уже уставшие ждать однокашники.
Михаил сидел чуть в отдалении.
– Мишаня, – рванулся мимо ребят к другу Борис, – у меня четвертак!
* * *
Вот так и закончилась эта история. Подготовка к экзамену по высшей математике пошла друзьям на пользу. Выдержав этот экзамен, они и в дальнейшей учебе относились к каждому предмету с полной отдачей. Они научились учиться и работать по-настоящему, ответственно. Не всем по плечу оказалась напряженная учеба в техническом институте. Из их группы, численностью тридцать человек, за пять лет по разным причинам учебу не смогли окончить семнадцать студентов.
Уважаемый профессор, заведующий кафедрой математики, выдержал свой экзамен, экзамен на человечность. Два года он ждал момента, чтобы поквитаться с обидчиками, но не сделал этого, доказав тем самым, что он настоящий мужик.
Нам всем в жизни рано или поздно приходится держать экзамен. Жизнь постоянно устраивает человеку экзамены, которые мы или сдаем, выходя из очередного испытания с честью, или, не выдерживая испытаний, скатываемся по наклонной без возврата.
2012 г.
Последний выстрел
Был обычный субботний осенний вечер. Они только что семьей вернулись из сада. Устав от огородных дел, Максим сидел в гостиной на диване, по привычке просматривая по телевизору блок новостей. Жена гремела на кухне посудой, стеклянными банками, разбираясь с урожаем огурцов, одновременно успевая следить за событиями на экране. Дочка сидела у экрана монитора, работая на компьютере, иногда уходя на несколько минут в свою комнату и возвращаясь обратно.
Вскоре, после новостей, начался фильм «Брат-2». Сегодня шел повторный показ, приуроченный к годовщине трагической гибели актера Сергея Бодрова-младшего, игравшего в фильме главного героя. На съемках нового фильма, на Кавказе, год назад его и всю съемочную группу накрыла снежно-каменная лавина, заживо похоронив в Кармадонском ущелье.
– Жалко его! – сказала жена, присев на краешек дивана с кухонным полотенцем в руках. – Такой хороший парень!
– Да, мам! – поддержала ее дочь. – Он всем так нравился, даже не верится, что его больше нет! – она тоже подошла к телевизору.
Тем временем на экране главный герой по имени Данил, приехавший в Америку спасать старшего брата, задумал разобраться с местной мафией. В заброшенном здании он мастерил одноразовое ружье, распиливая старую водопроводную трубу, прилаживая ее к самодельному деревянному прикладу. Закончив с ружьем, он крошил коричневые спичечные головки на лист бумаги в одну кучку, затем, засыпая эту взрывоопасную смесь в ствол, добавлял сверху вместо пули еще порцию надкусанных плоскогубцами мелких гвоздей.
– Па! Что это он делает? Я давно хотела спросить, – дочка присела рядом. – Я знаю, что это стреляет! Он потом выстрелит в машине.
На экране Данил уже сидел на переднем сиденье в машине чикагских гангстеров, рядом с водителем, пряча ружье под полой пальто.
– Вот сейчас! – встрепенулась она. – Ой! Это ужасно! Я не хочу это смотреть! – дочка встала и ушла в кухонный проем.
На экране герой достал самодельный обрез, чиркнул по нему спичечным коробком и резко, неожиданно повернулся, направив ствол на торговца оружием. Яркая вспышка загоревшихся у основания обреза десятка привязанных к стволу спичек через секунду исчезла в грохоте выстрела и дыму. Сотня мелких обрезанных гвоздей, вылетев из ствола, пучком врезалась в темное лицо, разрывая кожу в клочья.
Максим выключил телевизор, встал, бросил пульт на диван и тоже прошел за кухонный стол.
– Дашуль! Знаешь, что это? – и, не услышав ответа, продолжил: – Это называется поджиг. У нас в детстве эта штука называлась поджиг. Были еще самопалы, но это поджиг!
Дочка подошла к столу.
– Принцип тот же, что у чугунных пушек, – продолжал объяснять ей Максим. – Помнишь, как в кино показывали? Сначала в ствол порох закладывают. Затем пыж. Потом ядро. А потом солдат с горящим фитилем подходит к пушке и прикладывает фитиль к стволу. Порох взрывается – и ядро улетает! Вот мы – также. Трубки с одной стороны расплющивали молотком и напильником, подпиливали рядом отверстие. Всё! Потом головки от спичек накрошишь в ствол, спичку горящую к дырке поднесешь – и бабах! Поняла?!
– Пап! Да все понятно! Но у нас такого нет. Только петарды по праздникам, – ответила дочь.
– Ну, у нас другое время было! Шестидесятые. Ладно. Всё. Проехали! – он вздохнул и посмотрел на жену. – Лера! Может чайку попьем?
Размешивая сахар, Максим задумался и уже не слышал извечное замечание супруги:
– Ну сколько раз тебе нужно повторять? Не стучи по кружке, Максим!
Мыслями он окунулся в далекое детство, вспыхнувшее в памяти яркой картинкой освещенного солнцем прозрачного соснового бора, растущего на склоне горы, и вида поселка под насыпью железной дороги, с крышами одноэтажных домов, уступами улиц, сползающих по склону горы к реке, на фоне плывущих вдалеке, в облаках, четырех вершин Таганая.
Железная дорога, начиная отсчет километров от столицы, пересекала страну с запада на восток, пройдя первую тысячу километров по равнине, прогремев вагонами поездов мимо металлических ферм моста через Волгу. К концу второй тысячи верст окружающий ее с двух сторон степной и равнинный пейзаж меняется на холмы и лысые сопки отрогов Уральских гор. Дорога постепенно врезается в горы, обходя бесчисленные, покрытые лесом хребты по насыпям, вырезанным на склонах гор или вдоль русла горных рек. Поезда петляют по горам, как по лабиринту, наматывая лишние километры, сбавляя ход на бесконечных изгибах рельс, осторожно, с протяжным воем тепловозного гудка входя в очередной крутой поворот, за которым машинистам не видно продолжения дороги.
Привыкшие к шуму железной дороги, жители поселка уже давно не обращали внимания на гудки электровозов, перекрывающие все звуки светового дня, пронзающие застывший над поселком воздух свистящими нотами в ночной тишине.
Огибая по загнутым рельсам каменистый выступ горной гряды, почти нависающий над железной дорогой срезом стены из необычно светлого гранита со вставками белого кварца, локомотивы, как корабли, входящие в гавань, ежечасно выплывали из-за поворота, вытягивая следом за собой из-за скалы вагоны. Они тащили составы к железнодорожной станции, видимой в любую погоду на склоне противоположной горы. Эшелоны, уходящие из города на восток, в бескрайние сибирские просторы, давали свой прощальный сигнал на том же месте, у белой скалы, унося этот тревожный звук с собой, за поворот.
Под грохот проходящих грузовых и пассажирских составов поселок днями жил обычной жизнью и вечерами засыпал, убаюканный этой музыкой, словно шумом дождя, барабанящего по крыше в летнюю ночь.
Среди поселков, окружавших центр города с понятными исторически сложившимися названиями – Ветлуга, Демидовский, это поселение на склоне горы, начинавшей свой подъем от поймы речки Тесьма, с незапамятных времен в народе называлось Нахаловкой.
Максим проснулся от солнечного света. Он быстро поднялся и прошел по сухим, трескавшимся под его ногами стебелькам прошлогодней травы до дверей сеновала. Свежий утренний ветер ворвался в открытые двери, холодком пройдясь по коже, взъерошил все пространство дощатого строения под волнистой шиферной крышей. В широких полосах солнечных лучей, пробивающихся через щели между вертикально набитыми досками задней стены сеновала, как в кинотеатре от света кинопроектора, стала видимой мелкая пыль, поднявшаяся от сена. Максим спустился во двор по приставной лестнице, забежал в дом.
Все лето он на каникулах жил у деда с бабкой. Деревянный, срубленный дедом дом стоял на второй улице от железной дороги. Старики держали корову, как и многие жители Нахаловки. Корова исправно доилась, давала много хорошего молока, которое бабка ежедневно продавала постоянным покупателям. Держали кормилицу под сеновалом в «катухе», так дед называл коровью жилплощадь, по соседству с десятком кур.
Каждое утро, с весны до октябрьских холодов, поселок просыпался от утреннего песнопения поселковых петухов, перекрикивающих друг друга. Через полчаса после петушиного концерта к ранним звукам рассвета добавлялось хоровое мычание коров. Буренки после утренней дойки, покидая тесные теплые стайки, выходили из ворот в сопровождении хозяек, вытягивали шеи и издавали протяжное «му-у-у!», затем шли по улицам, спеша на зеленые поляны соснового леса, где их ждала подросшая за ночь свежая, умытая росой трава. Стадо собиралось большое. По окончании долгого летнего дня в свете бордового заката нагулявшиеся на лесных полянах буренки, тяжело дыша раздувшимися боками, возвращались домой. Медленной, усталой походкой, под щелканье кнутов двух пастухов, они шли в поселок, выбивая копытами сухую летнюю пыль. На подходе к поселку коровы выплывали из пылевой завесы, сопровождая свой выход звоном колокольчиков, висящих на шеях черно-белых и рыжих красавиц. Хозяева ждали своих кормилиц, окликая их по именам, встречая усталых тружениц кусочками хлеба с солью. Стадо острым клином, в центре которого в сопровождении пастуха шел огромный лобастый бык, плавно вливалось в поселок, растекаясь по улицам, постепенно рассасываясь по дворам.
Поддразнивая бабулю, Максим обычно балагурил, приговаривая: «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком!» – сидя за столом на кухне, уплетая приготовленную бабушкой гречневую кашу, залитую парным молоком.
Все дни летних каникул Максим проводил в компании двух друзей, двух соседей, братьев Коряковых, живущих в доме напротив. Старшего звали Николай, но Максим слышал это имя только при обращении к Кольке его родителей. Младшего все звали Толясик, как на улице, так и дома. У круглолицего, рыжего, с веснушками на щеках Кольки была прилипшая к нему намертво кличка Хмырь. Как и когда прилепилось к нему это прозвище, он и сам уже не помнил. В этом году ему исполнилось пятнадцать лет. Их мать, уходя с отцом на работу, оставляла ему деньги для покупки в магазине хлеба и других продуктов, а также поручала небольшие обязанности по дому: полить огород, прополоть, приглядеть за курами, чтобы не забежали ненароком в этот самый огород.
Толясик был полной противоположностью брату. Младше старшего на три года, он имел светлые волосы, был худым и слабым.
День начался как обычно. Максим выкатил из дома велосипед и спустился по склону к дому Коряковых, распугав при торможении копошащихся в пыли кур. Минут через десять вся компания была в сборе. Видимая с горы гладь городского пруда манила своей прохладой, и, запрыгнув на велосипеды, они укатили к причалу стадиона.
Речные трамваи в рабочие дни начинали курсировать из центра города на расположенный на противоположном берегу пруда стадион с пяти часов вечера. До этого времени можно было спокойно нырять с высокого причала, с разбега входя головой в воду или врезаясь в зеленоватую водную гладь «бомбочкой», разбрасывая брызги, долетающие до безлюдного в это время причала.
Нанырявшись до одури, они до обеда провалялись на горячем песке, изредка забегая в воду, чтобы охладиться. После купания хотелось есть. Забежав в воду последний раз, они стали собираться домой. Колька-Хмырь вытащил из кармана брюк, обрезанных по колено, пачку «Примы» и, открыв ее, достал сигарету, приклеив ее к нижней губе. Прохлопав рукой по всем карманам лежащих на песке брюк, не найдя спичек, он повернулся к Толясику:
– Ты спички взял?! – строго спросил он у брата, бросив тому на спину легкий горячий камушек.
– Ай! – воскликнул тот, заводя руку за спину, пытаясь смахнуть палящий кожу камень. – Ну взял – и что?! – он повернулся на бок, тряхнув плечами. – Дай сигаретку, – добавил он, увидев сигарету у Кольки во рту.
– Обойдешься, салабон! Спички давай!
Увидев открытую пачку сигарет, Толясик понял ее происхождение:
– Отец увидит – он тебе даст!
– Не увидит, если ты не продашь! Когда он пересчитывал? Ты дашь спичек или нет?!
– Нет их у меня! Кончились! Я их утром все искрошил! – начал оправдываться младший. – Поджиг зарядил! Думал, пальнем по дороге, – добавил он.
– Макс! Посмотри на этого балбеса! Поджиг зарядил, а чем поджигать его – башкой своей не подумал. Пострелять собрался! – он поднялся на ноги, сплюнул в сторону со злости и пошел прикурить сигарету к сидевшему на песке недалеко от них мужчине, дымившему папиросой. Вернувшись, Колька уже миролюбиво обратился к младшему:
– Толясь! Давай пальнем, пока сигарета не потухла! Проверим, че ты там зарядил.
Толясик спорить с братом не стал и снял с багажника велосипеда сверток, завернутый в тряпку. Развернул и передал старшему деревянный пистолет с прикрепленной к стволу сверху стальной трубкой, замотанной вокруг ствола синей изолентой.
– Чем зарядил?
– Шарик там. Чтоб он не укатился, я его пыжом сверху закрепил, – со знанием дела пояснил Толясик.
– Каким еще пыжом? Где ты войлок-то взял? Пыжом! – Хмырь, передразнивая брата, заглянул в трубку, направив отверстие против солнца.
– Ватой забил, что ли?! – спросил он, разглядев в темноте ствола белое пятно.
– Что тебе не нравится?! – вспылил Толясик. – Не хочешь – не стреляй! Я сам стрельну!
– Ладно! Пойдем, по щиту пальнем! – Колька шагнул в сторону выхода с территории пляжа, где стоял фанерный щит с правилами купания. Максим и Толясик, одеваясь на ходу, потянулись за ним.
Не доходя до щита пяти метров, Хмырь прицелился в центр плаката, затянулся и поднес ярко пылающий окурок к прорези в трубке. Выстрел прогремел неожиданно. Дружно воспламенившиеся в канале ствола головки спичек с грохотом выдали сноп пламени и с огромной скоростью выплюнули из трубки запыженный Толясиком в ствол металлический шарик вместе с лохмотьями горящей ваты. Звука треснувшей фанеры они не услышали, но, дружно подбежав вплотную к щиту, увидели результат стрельбы в виде конкретного круглого отверстия с торчащими осколками щепы.
– Весь коробок искрошил? – подводя итог стрельбы, уточнил у брата Хмырь.
– А че? – настороженно спросил Толясик, остерегаясь подвоха или критики.
– Да нет, ниче. Нормально. Больше этой нормы не заряжай. Понял? На! – и протянул брату самодельное оружие.
– Да понял, понял, – проворчал Толясик.
Через пару минут они, что есть силы, крутили педали велосипедов, в очередной раз соревнуясь в скорости на пыльной дороге.
К приходу родителей братьям нужно было заняться делами на огороде. До пяти часов вечера друзья расстались.
Максим, поев окрошки, сделанной бабушкой на домашнем квасе, сбегал в малинник, где со вчерашнего дня уже созрели красные и желтые ягоды, вернулся во двор и закрылся в дедовской столярной мастерской. На верстаке лежала готовая деревянная заготовка в форме пистолета. Максим еще накануне вечером закругленной стамеской выбрал из верхней грани пистолета полукруглый канал. Трубка по диаметру подходила и плотно прилегала к деревянной заготовке; правда калибр оружия получался больше, чем у Толясика, но другой трубки Максу найти не удалось. В течение двух часов он, увлеченный работой, расплющивал конец трубки молотком на наковальне, распиливал треугольным напильником прорезь для поджигания заряда. Пришлось сбегать к соседям за синей изолентой, и к пяти часам его поджиг был готов.
Максим вышел на улицу, огляделся. Пацаны находились у соседнего с ними дома, стоявшего в проулке, где жила семья Кольциных. Максим подошел к собравшейся компании. На краю дороги стоял мотоцикл «Ковровец» с разобранным мотором. На траве, на постеленной мешковине, лежали разобранные запчасти. Братья Кольцины, устроив перерыв в работе, курили.
Старший Борис, шатен среднего роста, был молчалив и немногословен. Буквально на днях пришедший из армии, он был в зеленой армейской рубашке с закатанными по локоть рукавами. Он курил и слушал монолог младшего брата.
Младший же, Вовка, был полной его противоположностью: балагур и весельчак. Загорелый, с голым торсом, с перебинтованными головой и правой рукой, висящей на повязке, он держал в левой сигарету, то и дело глубокими затяжками раскаляя ее докрасна. Ни одна драка в поселке не обходилась без его участия. Их пожилой отец, отставной старшина-пожарный, уже ходил к городскому военкому, прося ускорить призыв сына в армию. Вот и сейчас Кольцин-младший, отчаянно жестикулируя, рассказывал свои последние приключения. Разобранный мотоцикл сиротливо стоял в стороне с раскрытым с левой стороны двигателем. Остатки отработанного масла стекали с алюминиевых стенок и собирались в одной точке, капая в черную лужу, растекающуюся по глинистой рыжей обочине.
Из открытых настежь ворот со двора Кольциных, натягивая цепь, не переставая лаял лохматый, довольно крупный пес. Своим лаем он не давал Вовке начать рассказ.
– Фу! На место! – прикрикнул на него Борис, но собака, не реагируя на команду недавно появившегося молодого хозяина, продолжала сотрясать воздух громким лаем.
Вовка Кольцин уговаривать непослушного пса не собирался. Подобрав с земли небольшой, но увесистый камень, он метко запустил его здоровой рукой в собаку.
– Вот, блин, пустобрех! Заколебал уже! На хрена его отец подобрал?!
Отскочивший от площадки двора камень на взлете вскользь задел серую пятнистую шкуру. Этого было достаточно. Пес, гремя цепью, забежал в конуру.
– Ты знаешь, что он двух курей задавил? – спросил Вовка Бориса.
– Да! Маманя, как приехал, жаловалась! Ладно, рассказывай. Кто тебя отметелил?
– Я вчера в ДК железнодорожников вечером забурился. Думаю, посмотрю, потопчусь, может, кого своих встречу. Встретил! – Вовка сделал паузу, выдыхая струю белого дыма.
– Всё вроде ниче. Пригласил одну. Потанцевали. Тут перерыв. Кто – на улицу, кто – в туалет. Ну, думаю, тоже зайти надо. Зашел. Только зашел – в спину толчок такой, я аж метров на пять вперед проскочил. Поворачиваюсь, смотрю – стоит один кент в форме машиниста. Железнодорожник. Черненький такой! Я на него посмотрел, прикинул: «Ну, по комплекции такой же, как я! Щас я его зашибу!» – Вовка затушил остаток сигареты и продолжил: – А он, оказывается, с претензиями. Девушку его, мол, зачем пригласил?! Типа если еще раз к ней подойдешь, то… Ну, думаю, козел! Я ему и договорить не дал! Загнал его в дальний угол, к окну! Раза четыре хорошо попал! Нос разбил! Губу тоже! От долгого рассказа у Вовки пересохло в горле, и он, нагнувшись, достал из травы бутылку газировки.




