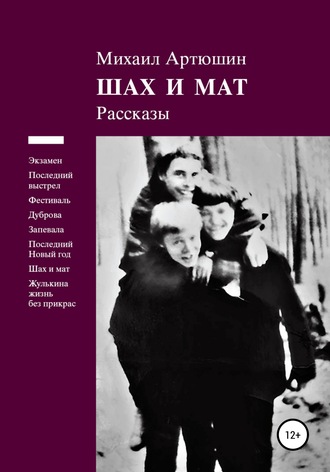
Михаил Артюшин
Шах и мат. Рассказы
– Вован! Че дальше-то?! – не выдержал Хмырь.
– Уф! – выдохнул Вовка, выдув полбутылки воды одним махом. Забинтованной рукой он вытер разбитые губы и продолжил: – Ну, думаю, хорош с него. Пора смываться отсюда. А то, не дай бог, дружков соберет, а я – один! – он сплюнул смачно на землю.
Тут только Максим заметил, что у Вовки нет двух передних зубов.
– Только подумал, поворачиваюсь на выход… мне как-а-ак дали! Я на этого машиниста и улетел! Короче. Он сзади, двое спереди! Все! Повалили! Потом пинали, гады! На левом боку лежал калачиком, правой закрывался! – он приподнял в доказательство руку: – На пальцах кожу сам об его зубы содрал, а рука вся синяя.
– Ладно, хоть башка твоя целая осталась! В военкомате на комиссии попросишь, чтобы зубы вставили, – оборвал рассказ младшего Борис. – Хорош языком болтать! Тащи канистру. Промыть надо все.
Вовка пошел во двор дома и принес канистру с бензином. Работа закипела. Толясик и Хмырь помогали соседу, промывая запчасти, протирая каждую насухо ветошью.
– Борь, прокатишь, а? – уже два раза подступал к Борису Кольцину Толясик.
– Заведется – погоняем!
Вовка Кольцин подсел к Максиму, сидящему на бревнах, сложенных перед домом, давно ошкуренных, потемневших от дождей, но по какой-то причине не востребованных до сих пор для строительства. Горка сосновых кругляков была местом постоянного сборища молодежи. Проживающие в соседних домах старики хоть и ложились спать по крестьянской привычке после захода солнца, но претензий к вечерним шумным компаниям не предъявляли.
– Это чей такой пугач?! – Кольцин крутил в руках деревянный пистолет, обнаруженный им в складке бревен. Максим молча кивнул в сторону Толясика, вытирающего тряпкой промасленные руки.
– Мой, – отозвался на вопрос Толясик.
Понюхав ствол, Вовка спросил:
– Похоже, уже шмалял из него?
– Сегодня пробовали! Хмырь сам проверял. Слышь, Хмырь! Скажи, что все нормально! – обратился он к старшему брату.
– Фанеру с пяти метров пробивает! – поддержал тот брата.
– Зарядить только нечем. Спичек дома больше нет. Хмырь на свой поджиг все спички перетаскал. Отец вчера орал уже. Прикурить было нечем! – посетовал Толясик.
– Лови! – щелчком большого пальца Вовка подкинул коробок вверх. Толясик лихо поймал коробок одной левой.
– Ох, пацаны, добалуетесь вы со своими самопалами! – закуривая и рассматривая Толясиков поджиг, подошел к брату Борис. – У нас в полку за три года пять самострелов было.
– Да че там! – опять вступил в разговор Колька. – Это ж – пукалка! Далеко не бьет! Я видел – Черкизов Лёха трубу отпиливал. Полметра. Вот это будет ствол!
Через полчаса мотоцикл был собран. После первых двух неудачных попыток «Ковровец» завелся и, выпустив из трубы сноп сизого дыма, затарахтел ровно и надежно.
Услышав шум мотоцикла, из дома вышла тетя Дуся.
– Борис! – обратилась она сыну. – Хлеба купить надо. Съезди в магазин, – она протянула сыну кошелек.
– Ладно, мать, убери деньги! Сами все купим, – крикнул матери Вовка, доставая из кармана зеленую трешку. – Возьми пару бутылок портвейна! – шепнул он брату. – Я бы сам поехал, да не удержу!
Толясик уже забрался на заднее сиденье.
– Черкизовым скажи, пусть сюда подгребают! Понял?! – сказал ему Кольцин-младший.
Магазин находился на соседней улице, расположенной ниже по склону. На подходе к магазину, с улицы, его двухэтажное здание, возвышаясь над соседними одноэтажными домами с потемневшими бревнами торцевых глухих стен, придавало улице унылый вид, но открывающийся следом фасад неожиданно выделялся огромными стеклами витрин в окантовке белых рам и высоким многоступенчатым крыльцом.
На этом фоне рядом стоящий небольшой дом Черкизовых с белыми мазаными стенами выглядел игрушечным. Казалось, что он здесь появился случайно и сам стесняется своих небольших, прижатых к земле окон, украшенных резными наличниками, стыдливо пряча их за кустами сирени и штакетником палисадника. Между магазином и палисадником в мае появилась площадка, отсыпанная желтым песком, с двумя вкопанными в землю деревянными столбами с металлической перекладиной. Благодаря братьям Черкизовым, соорудившим это спортивное сооружение, и соседству с магазином, где ежедневно появлялась поселковая шантрапа, площадка стала местом сбора пацанов всей улицы.
Братья Черкизовы, близнецы, как две капли воды похожие друг на друга, были одногодками Вовки Кольцина. Осенью они тоже ждали призыва в армию. В отличие от Вовки, курильщика и любителя выпить-погулять, братья были спортсменами. Небольшого роста, коренастые, они не первый год занимались борьбой. Готовясь к армии, дома дополнительно занимались силовой гимнастикой, накачивали мускулы. Столбы турника ходили ходуном, когда братья по очереди демонстрировали бьющим баклуши на каникулах пацанам «склепки», подъемы переворотом и даже «солнце». По примеру братьев пацаны с окрестных домов начали осваивать турник, приобщаться к спорту. Вечерами братья иногда, при большом скоплении народа, устраивали показательные бои, демонстрируя приемы самбо. Добровольцы, рискнувшие с деревянными ножом или пистолетом напасть на братьев, летали по воздуху и каждый раз оказывались поверженными на землю.
Никто теперь уже и не помнил, кто первым пришел на вечернее самбо с поджигом, но в тот вечер деревянный пистолет с металлической трубкой сразу привлек внимание братьев-борцов. После проведенного приема под названием «мельница» новое оружие оказалось в руках Лешки Черкизова. Через полчаса на спортплощадке уже прогремел пробный выстрел, и в сером, потемневшем от дождей и от времени дощатом заборе магазина появилась первая дырка от стального шарика из разбитого подшипника.
Прогремевший в вечерней тишине выстрел пробудил в головах мальчишек страсть к изготовлению оружия. Что толку в деревянных пистолетах и автоматах?! Сколько можно кричать, стреляя из деревянного оружия, имитируя звуки стрельбы! Нужно, чтобы оно стреляло! Поджиг! Вот настоящее оружие! Оглушающий звук выстрела, от которого неведомая сила отбрасывает руку с пистолетом назад, от которого вздрагивает в страхе и восторге все тело! Запретное и недоступное ранее развлечение. Выстрел! Это каждый раз то непредсказуемое и неожиданное, что влечет к себе непреодолимо! Чувство удовлетворения от точного попадания в цель нельзя описать словами, передать весь спектр ощущений и красок возникающего первобытного восторга.
То, что раньше можно было видеть только в кино и слышать по рассказам отца или деда, можно сделать самому: и с пламенем и грохотом разносить в щепки фанеру мишени, стрелять по земле, поднимая фонтанчики пыли, как в настоящем кино. Игры в войну, где все, как правило, были «наши» и совсем мало было желающих быть «немцами», кончились на улицах поселка сами собой, и незаметно. Новое увлечение было гораздо серьезнее, взрослее и по-мужски опаснее. Да и как не поддаться этому увлечению?! Каждый второй из родителей, живущих в поселке, работал на заводе, и их руки ежедневно вытачивали на станках детали к сотням мин, снарядов и патронов. И хотя на вопросы детей, что они делают на работе, родители отвечали уклончиво, так как об этом говорить было запрещено, пацаны в поселке знали, что, кроме выпуска электроплиток и утюгов, на заводе куется оружие. Город оружейников своей аурой, гулом цехов завода, вооружавшего пушками, штыками и шашками из булатной стали армию России на протяжении трех веков, на уровне подсознания оставлял в головах подрастающего поколения любовь к оружию.
Пока Максим с Хмырем помогали Вовке относить в сарай инструменты и канистру с бензином, Борис с Толясиком вернулись из магазина. Прихватив из дома пару граненых стаканов, Вовка позвал всю компанию на бревна. Толясик запрыгнул на «Ковровец», стоящий с наклоном на откинутый упор, ухватившись обеими руками за руль. Максим с Хмырем залезли на верхний ряд бревен. Вовка откупорил бутылку портвейна и разлил по стаканам:
– Ну, давай, брат! За твое здоровье! – он протянул руку, звонко чокнувшись с Борисом.
– Ты о своем здоровье подумай сначала! Балабол! – ответил Борис, выпив полстакана теплого темного портвейна.
– Толясик! Черкизоны дома?! – крикнул Вовка в спину Толясика.
– Да, сейчас придут! – вместо Толясика ответил Борис.
В это время во дворе серый пес, выглядывая из будки, внимательно наблюдал за появившейся во дворе курицей, вспоминая, каким образом он оказался во дворе этого дома.
Месяц назад, когда он бродяжил по поселку в поисках чего-нибудь съедобного, судьба повернулась к нему лицом в виде мужика, вышедшего из магазина с авоськой, нагруженной хлебом и колбасой. Голодный, он поплелся за этой авоськой по весенней грязи, не в силах оторваться от дурманящих запахов. Желудок сводило от голода. Он сглатывал бьющую фонтаном из-под языка слюну, но все равно она стекала по краям из пасти, напитывая шерсть на бороде влагой. Так он и приплелся за авоськой и черными резиновыми сапогами до углового дома в проулке. Собаки во дворе дома не было, поэтому он почувствовал себя в безопасности. Желтые метки собачьей «переписки» на углу проулка он прочитал на расстоянии. У него был отличный нюх. Все желтеющие, продырявившие белизну подтаявшего снега «записки» были оставлены пробегавшими на днях по этой улице такими же, как он, собратьями-бродягами. У прилегающей к дому территории хозяина пока не было. Свободная вакансия давала шанс заиметь маленький домик с соломенной подстилкой и полный пансион в виде двухразового питания. Все-таки он молодец, что не подкрался тогда сзади к источающей мучительные запахи авоське и не сунулся в нее мордой. Он остановился в двух метрах от ворот, и человек, закрывая калитку, наконец-то заметил его. Он и сейчас помнит слова, которые и решили его судьбу. «Ты смотри! Смышленый!» – с удивлением сказал мужчина, одобрительно качнув головой.
Калитка закрылась. Он сел на задние лапы и упорно ждал, не двигаясь с места, да и сил у него уже не было. Для того чтобы вернулись силы, ему нужно было найти где-то сухое место, заполнить желудок хотя бы водой из лужи – все-таки какая-никакая еда – и отлежаться.
Он не помнил, сколько времени он тогда сидел напротив калитки. Солнце согревало его морду и лоб, и он грелся под благодатными лучами, в забытьи, почти засыпая от усталости. Можно было бы и прилечь, но, если бы он улегся здесь, у этого дома, это было бы крайне невежливо, а он был воспитанный пес, выросший в приличном доме.
…Это было сказочное время. Он был совсем молоденьким и жил во дворе дома, свободно бегая по нему. В холода его пускали ночевать в дом, где он спал безмятежным сном на коврике, не вздрагивая от ночных шумов на улице. Хозяйка жила одна и готовила для него кашу, сдабривая ее иногда мясом из консервных банок. Мясо она покупала редко, но все же иногда ему перепадали вареные косточки.
Неприятности начались с приходом лета. С наступлением тепла хозяйка стала выпускать из-под крыльца во двор больших белых птиц, принося им зернышки и кусочки хлеба, приговаривая при этом: «Цыпа, цыпа, цыпа!» Птицы ходили по двору, шумели, кричали что-то друг другу, хлопали крыльями и совсем не обращали на него внимания. И однажды, когда он ел из чашки кашу, белая птица подошла к нему, стала клевать его кашу и затем сильно клюнула его в нос. Было очень больно. Он спрятался в своей будке: скулил от боли и до конца дня языком зализывал свою первую в жизни рану. Но он не забыл полученного урока.
На другой день хозяйка наполнила его миску кашей и почти сразу выпустила во двор этих надоедливых птиц. И вот та же белая птица опять подошла к нему, наклонила свой красный хохолок вниз, собираясь съесть его кашу и снова клюнуть в нос. Нет! Слишком сильна была обида, нанесенная вчера. Он грозно зарычал. Глупое пернатое создание на его рычание возмущенно распушило крылья, разнося по двору: «Кудах-тах-тах», и продолжило движение к его миске. Приступ гнева собрал все его мышцы в один пульсирующий комок. Несушка только опустила голову, чтобы склевать кашу, как задние лапы оторвали пса от земли, и через долю секунды он в прыжке клыками впился в тонкую белую шею. В следующее мгновение он сжал челюсти и мотнул головой, выдергивая птичью голову из миски. Верхние и нижние ряды его зубов плотно сомкнулись, с хрустом превратив в крошево хрящи, мясо и перья. Белокрылое население двора дружно бросилось в панике наутек, толкая друг друга, вламываясь в открытые двери курятника, оставляя у дверей перья, когда он прямо на них потащил неожиданно тяжелое тело птицы, роняя капли крови из пасти, через весь двор к дому. Порядок во дворе был наведен. Он отчитался о своей работе, положив убитую птицу на ступеньку крыльца. Заложенная в нем память предков-охотников напомнила ему, что добычу нужно отдавать тому, кто тебя кормит. Он честно выполнил свой собачий долг.
Но дело обернулось иначе. Добрая хозяйка, всегда ласково называвшая его «Шарик», была рассержена, кричала на него, затем исхлестала по спине поводком и привязала на цепь к будке, лишив его самого главного – свободы.
Через неделю все повторилось. Он расправился еще с одной глупой птицей, и хозяйка снова избила его. На другой день она взяла его на поводок, и они вышли из дома. Радостный, он весело бежал по улице, вдыхая незнакомые запахи, но прогулка оказалась долгой. Хозяйка затащила его в большой железный громыхающий дом со множеством сплошных стеклянных окон. В доме стояло много железных скамеек, на которых сидели люди. Этот дом сам бежал по незнакомым улицам быстрее любой собаки. Пол под ногами все время дрожал и подпрыгивал. Когда громыхающее чудище останавливалось, ему очень трудно было удержаться и не упасть на противно пахнущий огромный резиновый коврик. На этих остановках в стене дома то и дело с шипением открывались двери, хлопая металлическими створками друг об друга, и люди сходили по ступенькам на землю, и уже другие люди заходили обратно, принося с собой новые запахи с улицы. Так много людей он никогда не видел и не знал, надо ли ему лаять на них и защищать свою любимую хозяйку или не надо? Ему и самому было страшно от всей этой новизны, но люди разговаривали с хозяйкой доброжелательно, ему даже показалось, что они жалели его. Какой-то человек хотел даже погладить его по голове, но его руки несли на себе такие ужасные запахи плохой травы и противного белого дыма, что он вынужден был оскалить зубы и тихо зарычать. Ему дважды отдавили лапу, и он поскуливал от боли, но все-таки больше от страха перед этим железным домом, который еще к тому же иногда неожиданно и громко звенел, взвинчивая и так заведенные собачьи нервы до предела. Хозяйка больше не гладила его по голове и не жалела, а только иногда, когда он начинал скулить, неожиданно резко и грубо дергала за поводок, и ошейник больно врезался ему в шею. И ему от этого становилось грустно. Он пытался повилять хозяйке хвостом, чтобы она, как прежде, улыбнулась, но и тут у него ничего не получилось. Хвост задел ноги стоящих рядом людей, и они стали что-то громко выговаривать хозяйке, и она снова больно дернула его за поводок.
Вскоре хозяйка потянула его к выходу, двери с шумом открылись, и он выпрыгнул со ступенек на улицу. Обрадовавшись наконец твердой земле под ногами, он тянул ее прочь от железных длинных палок, лежащих на земле, по которым только что убежал ужасный железный дом. Потом они шли по скользкому железному мосту над большой шумящей водой и затем очень долго по узкому, сколоченному из досок настилу, где слева и справа квакали лягушки. Пройдя пойму реки, они поднялись по склону горы на самый верх, и он устал и не вилял больше хвостом, как утром, выйдя из дома, демонстрируя хозяйке свое удовольствие от прогулки.
Они пришли наконец к старенькому низенькому дому. Хозяйка привязала его к крыльцу и вошла в дом. В этом дворе никогда раньше не жили собаки, и поэтому не было даже собачьей будки. Судя по запахам и звукам, здесь не было и птиц. На крылечке он обнаружил только несколько черных кошачьих волосинок с седым окрасом на кончиках, оставленных живущим в доме старым котом. Хозяйка вышла из дома через несколько минут с каким-то мужчиной. На вопрос мужчины: «Как зовут?» – она ответила: «Шарик!» – и ушла, даже не попрощавшись.
Так он стал жить с другим хозяином: мужичком-старичком. Приходила зима, затем таял снег, и во дворе становилось невыносимо жарко от палящего солнца; и снова приходила зима, и так повторялось несколько раз. Он жил во дворе все время один, гуляя по двору, коротая ночи на коврике, на крыльце. Хозяин кормил его совсем плохо и иногда совсем забывал это делать. Тогда он начинал громко лаять, и хозяин вспоминал о нем, выходил на крыльцо, высыпал еду в миску и говорил: «Ешь, Шарик, ешь! Жизнь у тебя собачья! Да и у меня тоже!» От хозяина всегда плохо пахло. Пахло, как от пустых бутылок, стоящих рядами здесь же, в коробках, на крыльце.
Но вот однажды хозяин не вернулся домой. Была зима. Пролежав на крыльце на коврике несколько дней, он, дрожа от холода и голода, вылез из-под ворот на улицу и побрел вдоль домов на запах еды. Наплутавшись по всему поселку, он сел на время у магазина, и вот теперь оказался здесь, в этом дворе. Птицы… Опять в его жизни появились эти проклятые создания! Ему снова пришлось отстаивать свои права хозяина двора. Он проучил уже двух белокрылых наглюшек и был за это бит хозяином. Птиц переселили за железную сетку, но вот сегодня перед его глазами появилась еще одна, очередная, но не белая, а рыжая бестия! Откуда она взялась?!
Рыжая пеструшка, неизвестно как появившаяся во дворе, шагала по-хозяйски по грязному плитняку, что-то склевывая на ходу с темных полосок земли между камнями. Пес начал беспокоиться, когда заметил, что курица, скосив глазом, взяла прямой курс на его большую алюминиевую миску. Продолжая стучать клювом по камням, она подходила к ней все ближе и ближе. Подойдя к собачьей посудине, пеструха, подняв голову, оглянулась по сторонам, сделала осторожный шаг вперед и, издав довольное: «Ко-о-ко-рок-ко-ко-ко-ко!» – заглянула в миску. Застывшие на засаленном краю миски крошки хлеба привлекли ее внимание, и она, не раздумывая, клюнула первую крупную крошку и сразу вторую и третью! Удары клюва по алюминиевому краю пустого тазика прозвучали во дворе, как колокольный звон.
Нервы собаки не выдержали. В одно мгновение пес с грозным рычанием выскочил из своего укрытия. Пеструшка бросилась наутек, всполошив своим истошным кудахтаньем всех своих беленьких и рыженьких подруг, находившихся в сетчатом вольере. Пес догнал курицу на втором прыжке, прихватив сзади за шею. Челюсти собаки сомкнулись, пеструшка затрепыхалась и затихла, испустив дух. В вольере к несусветному гвалту куриного крика добавился шум и хлопанье десятков крыльев, поднявших с земли клубы сухой пыли вперемешку с облаком белого пуха и перьев. Услышав в открытое окно поднявшийся куриный переполох, из дома выбежала хозяйка, и пес был застигнут на месте преступления с добычей в зубах – с безжизненной куриной тушкой.
– Да что ж это такое деется-то! А!? О-о-ой! Лишенько мое-е-е, лишенько! Да чтоб ты сдох! Паразит! Вот парази-и-ит! Третью несушку задавил! О-о-ой! – запричитала она с крыльца.
Пес хотел было, как обычно, положить убитую птицу на ступени крыльца, но по крику хозяйки, почуяв неладное, покрутился возле будки и, высоко подняв голову, не отпуская из зубов добычу, бросился за угол сарая, ища укрытия, с целью скрыть следы преступления. Его очередное появление перед сеткой куриного вольера и вид неживой подруги в зубах вызвали очередной взрыв неистового шума в курятнике.
– Иван! – заголосила хозяйка, обращаясь к главе семьи в открытые двери дома. – Да иди ж ты сюда, наконец! Полюбуйся на своего паразита! Пеструшку задавил твой поганец! Ой-е-ей! Ирод проклятый!
Она поднимала руки и опускала их, хлопая себя по синему рабочему фартуку. Руки ее были в муке, и от этих шлепков на фартуке оставались белые отпечатки.
Пес опять заметался по двору и кинулся обратно к своей будке, пытаясь протащить добычу через узкий лаз.
Дядя Ваня, бросив недочитанную газету, выскочил на крыльцо, успев только поднять на лоб очки в темной роговой оправе, с привязанной сзади к ушкам оправы белой резинкой. Увидев забирающегося в будку пса и задушенную курицу, он, недолго думая, схватил из лежащих на крыльце дров первое попавшееся под руку полено и швырнул его в собаку.
Полено угодило в стенку будки над лазом, вызвав звуковой резонанс, который напугал собаку еще больше, чем прямое попадание. Пес отскочил в сторону и с испугу наконец-то выпустил из зубов изжеванную шею пеструшки. Безжизненная тушка упала рядом со злополучной алюминиевой миской. Голова бедолаги с красным хохолком задела край посудины, выдав ударом клюва по металлу последнюю прощальную ноту: «Дзинь-нь!»
– На черта ты его прикормил! Ирода! – продолжала разнос тетя Дуня, расходясь в своем гневе не на шутку. – Вона ж тильки и треба жрать и жрать! Да курей давить! Геть его со двора, чтобы мои очи его больше не бачили! – от волнения она перешла на смесь русского и родного украинского языка.
– У-у! Идол тебя поднял! – поддержал он супругу, направляясь к собаке с очередным поленом в руках, загоняя ее в будку.
– Что там за разборки?! – Борис в три прыжка спустился с откоса дороги к воротам дома. – Мать! Ты чего тут разгон устроила?! – Он подошел к матери, так и стоявшей на крыльце. – Что случилось?!
– Вона! Подывысь, сынок! Вона моя хохлатка задавлена! – тетя Дуся показала в сторону задавленной курицы и затем махнула с отчаянием. – Куды хотите девайте эту зверюгу! Чтобы я его больше не видела!
– Иван! – обратилась она вновь к супругу. – Голову-то хохлатке отруби, что ли! Ее ж щипать да потрошить надо! Не выбрасывать же! Ой, лишенько мое! Ой, лишенько!
– На кой ляд ее рубить-то! – сообразил дядя Ваня. – Она и так уже того! Мертвее не бывает!
Он поднял курицу за голову и пошел к дому, волоча куриную тушку лапками по земле.
Во двор зашел Вовка, за ним братья Черкизовы. Вся бригада пацанов остановилась под козырьком калитки, заглядывая во двор.
– О-о! Батя курицу задавил! – пошутил Вовка, уже сообразивший, в чем дело.
– Шутишь все! Я тебе пошуткую! Ишь! Моду взял с отцом шутковать! – рассердился заведенный еще раньше руганью супруги отец.
Дядя Ваня плюнул в сердцах на землю, прошел со своей ношей мимо ребят и поднялся на крыльцо.
Вовка подошел к собачьей будке и присел на корточки, заглядывая в темноту собачьего убежища, пытаясь разглядеть собаку, оглядывая территорию вокруг будки, местами усеянную куриным пухом и перьями.
– Бать! Че делать-то будем?! – спросил более практичный Борис, поднимая с земли брошенное отцом полено.
– Дак куды ж его, мать его ети, теперь девать? – с крыльца вопросом на вопрос ответил отец, имея в виду несчастного пса. – Мать! На поленнице твоя хохлатка! – крикнул он вслед уже зашедшей в дом супруге. – Сегодня ж надо ее ощипать! – добавил он в открытые двери дома и, повернувшись к сыновьям, сказал в сердцах: – Было б ружье, ребята, отвел бы поганца в лес и пристрелил бы! Ей-богу, пристрелил бы!
Дядя Ваня присел на верхнюю ступеньку крыльца, снял со лба очки и неожиданно громким голосом произнес:
– Ну! Что там у вас за курево? Дайте отцу закурить, мать вашу! Домой не хочу заходить!
Дома на печке всегда лежал запас папирос «Беломорканал».
Борис протянул отцу пачку сигарет. Прикурив непривычную для себя «Приму», сплюнув табачные крошки, прилипшие к губе, Иван Исаич после глубокой затяжки, задумавшись о чем-то, тихо сказал:
– Лошадей и собак, ребятки, если что не так, обычно пристреливают.
Во дворе после произошедшей суматохи стало как-то непривычно тихо. Наступившую паузу нарушил пес, неожиданно заскуливший в будке.
– Гляди! Чувствует кобелина, чье мясо съел! – съязвил неугомонный младший Кольцин.
– Сынок! – обратился Иван Исаич к старшему сыну, понимая, что младшему такое поручение давать нельзя: – Сходи до Володьки Помазкина, поспрошай, сможет он стрельнуть нашего оглоеда?! Бутылку мы ему с матерью поставим!
– Бать, ты че! Да Помазок твой керосинит уже неделю! Он со двора-то выйти не может! Да и лето! Не сезон! Может, и патронов нет. Тетя Маша, как он запьет, и ружье кому-то уносит на сохранку, от греха подальше!
– Ну, не знаю! – ответил отец. – Мало в Нахаловке охотников? Ищите!
Считая разговор законченным, старший Кольцин поднялся со ступенек и, кряхтя, зашел в дом.
– Пойдем, мужики! Посидим еще! – предложил Борис, обращаясь к братьям Черкизовым. Вся компания вышла со двора, чуть поднявшись наверх, на излюбленное место посиделок. Вовка Кольцин налил себе и брату еще по полстакана вина, подводя итог произошедшим во дворе событиям, произнес тост:
– Чтобы наш кабысдох поскорее издох!
– Пожалуй, что так, наверно, всем спокойнее будет. Раз батя так решил, – поддержал младшего Борис. – Ну, давай!
Они выпили и присели на бревна к парням, которые не вмешивались до этого момента в разговор. Толясик сдирал со спичек коричневые головки. Глядя на поджиг в руках Толясика, рассудительный и серьезный Лёха Черкизов взял слово:
– Слышь, мужики! А че! Давайте попробуем его сами из поджигала шмальнуть! Где сейчас двустволку искать?
– Как ты из него такую тушу завалишь?! Максимум из него кожу пробьет, а может, и в шерсти застрянет! Ни хрена ему от этого не будет! – возразил Борис.
– Слушай, че базар-то зря разводить! Давай слетаем до дома, я тебе наш обрез покажу! – предложил Лёха.
Борис молча мотнул головой в сторону мотоцикла: «Поехали!»
Через минуту мотоциклетный треск уже доносился через листву огородов, становясь все тише за домами нижней улицы. Подъехав к дому Черкизовых, Борис заглушил мотоцикл. Алексей, подняв внутренний засов калитки, зашел в дом.
Возвращаясь к дому Кольциных, Лёха ехал на заднем сиденьи, как казак на коне, держа в правой руке вверх стволом поджиг огромного размера. Спрыгнув с мотоцикла, Лёха подошел к сидевшим на бревнах парням, демонстрируя ружье.
– Я же говорил! Во! – первым прокомментировал оружие Хмырь, подняв вверх в знак восхищения большой палец.
Это было одноствольное ружье с укороченным стволом. Блестящая труба из нержавейки с толстыми стенками была закреплена на прикладе металлическими хомутами.
Максим тоже удивился огромному размеру поджига и решил, что покажет свое новое оружие друзьям завтра.
Вовка поднялся со скамейки. Здоровой рукой взял ружье за цевье.
– Тяжелое, блин! На сколько бьет? – спросил он братьев, возвращая Лёхе оружие.
– Не проверяли еще! – ответил Лёха. – Вчера только хомуты затянули!
Подошел Борис:
– Ну, что решаем, мужики? – спросил он, обращаясь больше к братьям Черкизовым.
Тут наступила очередь высказать свое мнение Лёньке:
– Да что говорить-то! Идти надо да пробовать!
Он взял у брата ружье, покрутил в руках:
– Дома же не проверишь! В лес собирались, чтобы людей поменьше было. Я хотел где-нибудь на горе к сосне мишень прикрепить.
– Ну, хорошо! А заряд какой мощности? А пули? Какой у вас калибр, замеряли? – вчерашний солдат Борис со знанием дела задал эти вопросы мастерам-оружейникам, братьям-близнецам.
– Порох сыпанем из патронов. Там же все завешено до грамма. Считай, заряд как для ружья! Ствол и больше выдержит! Под калибр семь шестьдесят два трубку и подгоняли. Какие вопросы? Лопату надо взять. За белой скалой на просеку если пройдем, где мишени биатлона стояли, там этих пуль, как семечек!
– Да вон у пацанов сто процентов пули есть! Хмырь! Толясик! Слышьте, что говорю? Гильзы, пули там копали?
Услышав утвердительный ответ, он еще раз переспросил:
– Еще не повыбрасывали?
Пока Хмырь чесал левой рукой свою огненно-рыжую копну волос на затылке, соображая, что ответить Черкизову, Толясик соскочил с бревна:
– Щас! Две у меня, кажись, остались! – и побежал в сторону открытых ворот своего дома.
Слышно было, как Толясик хлопнул входными дверями, залетая на бегу в темные сени, а в воздушном пространстве зависла пауза. Молчавший до этого второй близнец вдруг продолжил:
– Что все застыли-то? Сейчас надо решить, где патроны будем брать. Порох нужен. Хоть упаковку спичек искрошим, все равно толку не будет! Спички в стволе шомполом уплотнять надо. Плотности нет – и убойная сила не та.
В разговор вклинился захмелевший Вовка:
– Че тут думать-то! Щас мы к Помазкину сгоняем!
– Борь, заводи! Пару стаканов Помазку плеснем – и насчет патронов договоримся! – продолжил он, обращаясь к старшему брату.
– Если он их еще не пропил! – машинально ответил брату Борис и, тут же спохватившись, добавил: – Ну, ты, черт перебинтованный! Куда тебя опять понесло? Я что, буду смотреть, как ты с Помазком вино будешь распивать?! Да тебя самого потом оттуда не вытащить! Со стакана окосел уже! Сиди здесь! Понял?!
Шагнув в сторону «Ковровца», доставая из кармана ключ зажигания, он на ходу повернулся в сторону близнецов:
– Лёха! Поехали!
Полчаса ушло на подготовку. Борис с Лёхой привезли десяток патронов двенадцатого калибра, заряженных дробью, которые Помазкин отдал за три рубля, сдернув со шкафа запыленный патронташ. Братья рассовали патроны по карманам. Толясик принес две пули.
– Ну что, пехота?! Готовы? Стартуем через пять минут! – принял решение Борис, посмотрев на братьев, Хмыря и Толясика, сидящих на бревне.
Максим минуту назад убежал домой переодеться для похода в лес.
– Вован, пошли! Выводи собаку! На поводок его надо взять. Не цепью же по улице греметь! – сказал он, уже обращаясь к брату.
Во дворе нарушитель спокойствия утолял жажду после произошедших драматических событий. В кастрюле, стоящей сзади будки, у стенки сарая, со вчерашнего дня еще сохранилась вода. Пес лакал воду, опустив морду в глубокую посудину по самые уши. Пару раз, устраивая передышку, он поднимал голову, шумно дышал, раздувая в стороны свои серые, покрытые скатанной шерстью бока, отфыркивался и опять опускал пасть в кастрюлю, чавкая внутри ее водой.
Борис нашел в сенях старый сохранившийся брезентовый поводок. Выйдя на крыльцо, он свистнул брату, чтобы привлечь его внимание. Вовка повернулся.
– Лови! – он бросил поводок с крыльца. – Выводи давай! Я пока ботинки надену!
Вовка отцепил собаку с цепи и приладил к ошейнику поводок. Странное дело, но, увидев манипуляции молодого хозяина с поводком, пес завилял хвостом, тихонько повизгивая, выражал готовность к прогулке.
– Все! – Вовка дернул поводок в сторону калитки. – Пошли!
Пес понял, что от него требуется, и с удовольствием ринулся к открытой калитке, натянув поводок, потащив Вовку за собой. От рывка Вовка споткнулся, пробежав в наклоне несколько шагов, и чуть не упал посередине двора.




